
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Зак. 494 2 страница
Хронологические рамки шестого периода практически совпадают с границами предыдущего. Началом шестого периода Дзиэн считает правление Госиракава в качестве экс-императора (1158), а его завершением — окончание правления Готоба (1198). Однако оценка этих периодов в корне различна. Принципом шестого периода Дзиэн безоговорочно признает «неправильные действия» и стремительные перемены, ведущие к упадку, в то время как в пятом периоде остается место для людей, превосходных в своей добродетели. 204
Ыидиипал --ч.^...~~г~ ———--- - „-,~..„^ „„,.„.„ „ 1и1и т
| и не |
ценного отрезка ставит обычно исследователей в тупик находит удовлетворительного объяснения. Однако, как нам представляется, такое противоречие возникает лишь ввиду подсознательной интерполяции наших собственных представлений в интеллектуальную структуру историзма Дзиэна. Человеку современному кажется, что физическая субстанция времени ввиду его категориальной всеобщности подразумевает лишь однозначное ее толкование. Нам, однако, уже приходилось отмечать, что «время» в средневековье есть понятие социально обусловленное. Из этого с непреложностью следует вывод о своеобразии протекания времени в массовом сознании различных •социальных групп. Если мы еще раз обратимся к характеристике, данной Дзиэном пятому периоду японской истории, то увидим, что она относится к «веку военных» («буси-но ё») и его главными деятелями являются самураи. Что же касается шестого периода, то его хронологические и содержательные рамки определяются правлениями императоров. Таким образом, хронологическая концепция Дзиэна, характеризуемая в самых общих чертах как эсхатологическая, способна порождать и субхронологические синхронные модели, которые не осознавались как противоречащие друг другу.
Время своей жизни Дзиэн относит к седьмому, наиболее ужасному периоду истории. Люди в это время полностью теряют способность оценивать последствия своих поступков. Способности правителей и их подданных катастрофически ухудшаются, и судьба не благоволит больше никому (с. 326). Бюрократическая машина, столь любовно лелеемая на всем Дальнем Востоке, пришла в полный беспорядок.
Человек не в силах остановить этот процесс всеобщей деградации, но мудрец тем не менее может научить других, «как разрушать зло и творить добро». Роль такого полухаризматического наставника Дзиэн берет на себя.
Заключительную часть «Гукансё» он целиком отводит под собственные рассуждения, подводящие итог предыдущему изложению. Главный вывод Дзиэна заключается в том, что принципы, годные для одной эпохи, перестают быть таковыми с течением времени. Так, первоначальные принципы, согласно которым императором не может быть ребенок в возрасте до десяти лет и ни один император, каким бы дурным он ни был, не может быть сменяем ни при каких обстоятельствах, перестают соблюдаться. Дзиэн не видит в этой смене принципов противоречия первоначальным установлениям, ибо находит, что, несмотря на все изменения, трон никогда не занимали кандидаты, не удовлетворявшие «генеалогическому цензу», а значит, и все изменения служили главному — сохранению самого института императорской власти (с. 327—328). Регенты и министры дома Фудзивара сыграли в процессе сохранения императорской власти выдающуюся роль. Они выполняли волю Аматэра-

|

|

|
су, которая предвидела, что императоры в более поздние времена не будут обладать способностями правителей ранних. Именно в опекунстве императоров министрами Фудзивара видел Дзиэн гарантию благополучия страны. Однако после того как Аматэрасу приняла решение, что управление страной должно осуществляться императорами-монахами, между императорами и регентами, с одной стороны, и экс-императорами — с другой, встали «личные министры» («кинсин») последних, что уже никак не соответствовало планам Аматэрасу. С появлением сегунов Фудзивара оказались еще более оттесненными на второй план. Почувствовав, что развитие событий идет вразрез с первоначальным замыслом, когда император и регенты находятся в гармонических отношениях, Аматэрасу вкупе с Хатиманом решила, что модель правления должна вернуться к прежнему образцу: Кудзё Нрицунэ был назначен преемником сегуна, чем обеспечивалось совмещение учености и военной мощи в одном лице. Это назначение почиталось многими, включая самого императора Готоба, за акт, недостойный благородного происхождения Ёрицунэ. Однако переубедить Дзиэна было непросто. Одержимый идеей о спасительной роли Ёрицунэ в нынешнем хаосе, он советует Готоба собрать немногих министров, которые понимают «веление времени», с тем, чтобы они держали перед могущественными военными речь, текст которой Дзиэн уже предусмотрительно составил.
Здесь уместно заметить, что ораторское искусство никогда не находилось в Японии в особом почете. Ораторы процветают там, где им есть кого убеждать. Однако весь строй жизни средневековых японцев подразумевал их участие в государственной жизни лишь в качестве объектов политической деятельности. Авторитарность власти, прослеживаемая на всех уровнях общества, вывела ораторское искусство за пределы основного направления развития японской словесности. Наверное, самого Дзиэна можно причислить к мастерам красноречия, но красноречия письменного. Сколь ни была обширна его аудитория по сравнению с предыдущими «историками», сама письменная форма сочинения неизбежно обрекала его на индивидуальное восприятие, предполагающее разновременность акта коммуникации и исключающее мгновенное и зачастую легковесное одушевление «народных масс».
Адресованный Готоба совет держать перед военными речь ясно выявляет прагматическую направленность труда Дзиэна. Если вся предыдущая «историческая» традиция делает основной упор на регистрации прошлого (чтобы «истина стала известна потомкам»—так формулирует этот подход «Кодзики»), то кисть Дзизна покушается и на будущее. Прошлое перестает быть ценным только само по себе. Оно — еще и пролог будущего, и учебник для него. Будучи фатально убежденным в неизбежности упадка, Дзиэн также убежден, что прошлое (т. е. познание «принципов») способно научить, как ослабить удар 206
«рт столкновения с ним. Будущее сформировано лишь в общих.предначертаниях и до некоторой степени зависимо от волевой деятельности людей, или, точнее говоря, «мудрецов». Главным способом разрешения возникающих социальных проблем является династическая политика, что еще раз подтверждает наше убеждение в правильности выбора «генеалогического кода» в качестве основного средства понимания событий японской истории.
Установки на восприятие истории и личности через генеалогию дожили до сегодняшнего дня. Научным отражением этих установок является общепринятое среди японских исследователей выделение генеалогии в едва ли не важнейшую проблему, возникающую при анализе государственных, религиозных,.литературных и иных деятелей (см., например, наиболее пред-•ставительную многотомную биографическую серию «Нихон дзим-буцу сосё», издательство «Ёсикава кобункан»).
Наш анализ труда Дзиэна показывает, что, несмотря на расширение хронологического охвата, изощренность аргументации и синтетическую форму повествования, история не превратилась в дисциплину, объектом рассмотрения которой являлось бы прошлое само по себе. История, в понимании Дзиэна,— это средство познания настоящего и будущего через -прошлое. Предназначение ее состоит в самоидентификации социальной группы (аристократов), представляемой Дзиэном, и в целенаправленном формировании установок, способных обеспечить связь времён, трактуемую как преемственность структур власти и подчинения.
Подход, основы которого были заложены Дзиэном, стал началом традиции личного, не санкционированного государством осмысления истории (об одном из таких историков — Китаба-такэ Тикафуса — см. [Мещеряков, 1988а]).

|
Евтерпа — муза лирической поэзии. Выполнена с античного оригинала. Отливка и чеканка Э. Гастеклу. 1798 г., Санкт-Петербург. Надпись СНо сделана ошибочно.
Атрибуция статуи в парке г. Павловска
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
История письменной культуры есть хронологическая последовательность вовлечения в ее сферу определенных духовных реальностей. Сама эта последовательность, степень и формы вовлеченности объекта в письменную культуру являются проекцией важных ценностных установок определенных социально-культурных групп. Письменность, в свою очередь, не представляет собой чисто технического инструмента для фиксации и хранения информации, но обладает значительным творительным воздействием как на отдельные формы культуры, так и на культуру в целом.
На начальных этапах распространения письменности в Японии наибольшую активность и последовательность по использованию письменности проявляет государство (двор), фиксирующее и создающее нормативные представления о самом себе. Эта деятельность находит отражение в конце VII—начале VIII в. в составлении законодательных сводов (иератический автопортрет государства) и мифологическо-летописных сводов («автобиография»), которые затем принимают форму хроники. Законодательные своды отражают идеальные представления о пан-хронистическом настоящем государства; своды мифологические и хроники — о прошлом далеком (миф) и близком (история). Оба типа текстов объединены тем, что инициатором их порождения, а также единственным потребителем (аудиторией) служит государство и они являются отражением (и формируют его) надындивидуального, коллективного сознания социальной группы, институализированной как «государство». И законы, и «история» пишутся на китайском языке, их потенциальную аудиторию составляет чиновничество, а текст рассчитан на усвоение (в основном) в письменном виде. Вместе с тем если первые исторические сочинения («Нихон секи» и в особенности «Кодзики») несут на себе отпечаток дописьменной традиции (реалии культуры, способ порождения), то законодательные своды представляют собой целиком продукт культуры письменной, поскольку как тип сознания, не имеющий прочной местной основы, форма юридической мысли была заимствована из Китая с минимальными изменениями.
Историческое сознание, вырастающее из развитого культа
предков (материализованного в генеалогических списках) определяет главные принципы письменной культуры VIII в.: уело-вием категоризации объекта является возможность рассмотрения его в диахроническом аспекте. Это касается не только государства, но также и буддизма (храмовые хроники, жития). Структура поэтической антологии «Манъёсю» также в значительной степени удовлетворяет требованиям хронологического принципа.
При этом целью текста служит не пространственная экспансия (завоевание максимально широкой аудитории), а передача (сохранение) информации во времени. Уже в этот период одна из основных этнокультурных характеристик японцев — стремление обеспечить преемственность развития — может считаться сформированной: условием адекватного бытования любого культурного феномена является наличие у него истории. Допустимо поэтому предположить, что ссылки ранних памятников на якобы не сохранившиеся сочинения (хроники, законодательные своды) выполняют эту идеологическую задачу, чтобы представить эти памятники не как начало, а как продолжение уже существующего.
В связи с усиленным подчеркиванием в любом процессе его связи с прошлым обновленческие и реформаторские движения в Японии имеют своим идеологическим обеспечением возврат к, некоторым исходным ценностям, ибо в противном случае они будут обречены на неуспех. Чрезвычайно характерно, что современный «западный человек» с его общей ориентированностью на настоящее и будущее, оказывается не в состоянии адекватно интерпретировать важнейшие события японской истории, поскольку исходит из критериев собственной культуры.
Так, явление, известное в японской историографии как «Мэй-дзи исин» («обновление годов Мэйдзи»), имевшее внешней целью реставрацию статуса императора, лишенного власти при сегунах, фактически привело к чрезвычайно стремительному и решительному развитию капиталистических отношений. Однако до сих пор это явление определяется в отечественной историографии как «незавершенная буржуазная революция Мэйдзи» ввиду того, что термин «революция», исходя из осмысления опыта отечественной истории, воспринимается как тотальное отрицание традиции, и, в случае удержания историей структур прошлого, явление характеризуется как неполноценное. Если следовать этой логике, то и современную Японию можно квалифицировать как страну, имеющую сильнейшие пережитки феодального строя. Однако вряд ли можно оспорить, что «пере-*житок» потому и является таковым, что он создает препятствия новому. Развитие же нынешней Японии недвусмысленно свидетельствует, что наличие традиционных мыслительных и социальных структур отнюдь не всегда представляет собой фактор, подлежащий устранению.
| 209 |
Еще один пример непонимания «западным человеком» истин-
14 Зак. 494
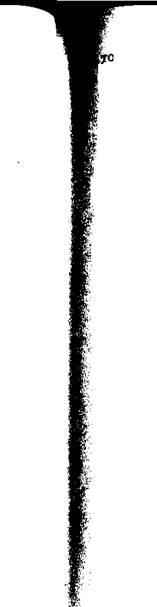
|

|
| II |
ного смысла японского менталитета. При разработке послевоенной конституции Японии американские оккупационные власти согласились на определение императора Японии как «символа страны», интерпретируя его, по всей вероятности, как пустой звук, лишенный реального содержания, и вряд ли отдавая себе отчет, что практически всегда в истории Японии император оставался «всего лишь» «символом», что тем не менее хранило династию от всяких посягательств на ее наследственные права в отправлении ее «символических» (т. е. сакральных) функций (единственное исключение — неудачная попытка узурпации императорских прерогатив монахом Доке во второй половине VIII в.).
Помимо историчности сознания анализируемые нами тексты выявляют еще одну сторону национального самосознания — диа-логичность. Наиболее полно она проявлена в поэзии. Это свойство, происходящее от фольклорной предорганизации поэзии, становится и ее литературным свойством. Каждое звено такой цепи (поэтическая реплика) является одновременно предшествующим и последующим, подобно тому, как человек исторических хроник — потомком и предком.
Диалогичность находит выражение как в структуре поэтического текста («ответные песни», поэтические последовательности самого разного рода), так и в формах бытования (обмен стихами, поэтические турниры). В ходе поэтической деятельности такого рода вырабатывается и закрепляется тип личности, постоянно подстраивающей себя к собеседнику, партнеру, канону, традиции, что исключает в исторической перспективе появление такого феномена западной цивилизации, как самообожествление человека, приводящего, с одной стороны, к раскрытию творческого потенциала личности, а с другой — ведущего к дестабилизирующим общественным и экзистенциальным последствиям. Чрезвычайно характерно, что такой монологический (романтический) тип личности оказывается не в состоянии воспринять диалогическую доминанту японской поэзии (а значит, и личности), и определенная популярность этой поэзии на Западе имеет основой скорее превратное, нежели адекватное восприятие (преходящая мода на «экзотику»), что, впрочем, лишний раз доказывает универсальный, поликодовый смысл феномена искусства, которое с успехом может быть использовано не по предназначению.
Впрочем, смещение заданных культурой и автором акцентов стихотворения возможно и внутри японской традиции, поскольку художественный статус стихотворения таков, что предполагает возможность перенесения его из одной последовательности в другую по воле составителя такой последовательности, а не самого автора. Авторство в такой ситуации — не право, а эмблема стихотворения.
Мозаичность, т. е. составление текста из уже готовых элементов, должна быть признана наджанровым принципом текс-
«ого сознания интересовавшей нас в данной книге эпохи. Этот Принцип справедлив и для исторических хроник, и для поэзии, |й для религиозно-философских сочинений, и для сборников буддийской прозы. Текст, таким образом,^ не входит в границы Личности, не принадлежит ей. С другой стороны, любой текст 'принадлежит любой личности в смысле ее права на переделку /•(перебелку) (если, разумеется, эта личность входит в потен-'Циальную аудиторию данного класса текстов). «Составленность» ^письменного текста равняется его санкционированное™ — роль, | которая отводится аудитории фольклорного произведения при "его прослушивании (сохраняется в явном виде в формах бытования японской поэзии).
Здесь уместно сказать, что эволюция концепции пространства в исторических памятниках и поэтических сочинениях сходна в главных своих чертах. Если в VIII в. пространственный охват объемлет собой всю «Поднебесную», то с течением времени он сужается, все более сжимаясь до пределов столицы, императорского дворца, собственного дома. Что же касается художественной прозы, то порождение текстов этого типа происходит уже в тот момент, когда бескрайнего пространства уже не существует. Модели пространства разнятся в деталях в зависимости от жанра (поджанра) словесности, но указанная закономерность имеет в целом наджанровое свойство и реализуется не только в словесности, но и в культуре вообще (концепция вещи, архитектура, живопись и т. д.). Достижения современной Японии в части технологической умелости в первую очередь связаны с традиционной концепцией сужающегося пространства, зафиксированного, в частности, в памятниках ранней словесности. Эта концепция предполагает детальное освоение и структуризацию пространства, непосредственно прилежащего человеку.
Другая социально-культурная страта — буддизм — порождает принципиально иную модель пространства, отраженную в буддийских легендах. Она характеризуется значительно более широким географическим охватом, отсутствием единого сакрального центра — как в смысле объекта описания, так и в смысле субъекта текстопорождения. Как и во всяком другом типе религиозного текста, пространство обретает многомерность, т. е. перемещение человека в нем имеет не только горизонтальную (профанную), но и вертикальную (сакральную) направленность (спуск в ад и вознесение в рай). Эта многомерность принципиально отлична от мифологического синтоистского текста, описывающего по преимуществу перемещение божества сверху вниз (с неба на землю), что является важной характеристикой мифологического (в отличие от исторического) времени.
Описание широкого пространства коррелирует в буддийской субкультуре с «широкой» аудиторией. Если исторические, поэтические и прозаические тексты не предполагают максимальной пространственной экспансии (обслуживают определенную со-
14*
циальную группу, не ставя своей целью выход за ее пределы), то буддийские легенды рассчитаны на преодоление социальных границ и расширение своей аудитории, что, однако, не исключает существования эзотерических способов передачи информации. Но отнюдь не тайные методы передачи учения определяют главное направление текстовой деятельности в буддийской субкультуре.
Определенный тип пространства достаточно жестко сопрягается с типом времени. Для всех видов словесности (прежде всего поэзии и прозы), имеющих центром порождения двор, основным типом «малого времени» является циклическое время природного годового цикла с особым акцентированием весны и осени (основные сезоны аграрной обрядности синтоизма). Так ритуальное время обретает эстетические коннотации.
Буддийские тексты сезонное время интересует в гораздо меньшей степени — оно «распрямляется» в линию жизни отдельного человека. События приобретают смысл личной «священной истории» и являются следствием волевой активности, направленной на возрастание добродетели и уничтожение порока, трактуемых с точки зрения буддийской этики.
Таким образом, придворная и буддийская субкультуры образуют несколько типов культурного единства, в которых сопрягаются определенные типы пространства, времени и человека. Первая порождает «человека чувствительного», «человека государственного» и «человека исторического», вторая — «человека спасающегося».
Чрезвычайно важно отметить, что описанные модели пространства, времени и человека сосуществуют синхронно и осознаются как противоречащие друг другу лишь до некоторой степени. Несмотря на определенное взаимоотталкивание аристократической и буддийской субкультур, оно не вызывало ни непримиримого противостояния, ни неразрешимого внутреннего конфликта личности. Каждая из них актуализируется лишь при определенной ситуации, обусловлена и избираема ею. Ни одна из выделяемых нами субкультур не является поэтому самодостаточной, что приводит к их контаминации при создании текстовых построений всеобъемлющей направленности. Труд Дзиэна является наилучшим тому подтверждением. В нем совмещены синтоистская (миф) и буддийская (эсхатология) концепции времени; понимание истории как генеалогического (синтоизм) и этического (буддизм, конфуцианство) процесса; приемы построения художественного и исторического текста; личный взгляд на историю, диктуемый надындивидуальными ценностями, и т. д. Каждому фрагменту каждой идеологической или же художественной системы отводится в этом синтезе вполне определенное место, которое не может быть занято соответствующим фрагментом другой системы. В массовом сознании (этот термин мы понимаем в данном случае как противопоставленный сознанию, находящемуся целиком внутри определенной тради-
_„,.; фрагменты различных по своему происхождению систем Находятся не в антагонистических, а во взаимодополняющих Отношениях. Эта закономерность, прослеживаемая в поведении |понцев в исторической перспективе с большой последователь-остью, дает определенные выходы и в этнопсихологию вообще. в- Ни один этнос не может быть описан и понят, если исходить &з оппозиций типа воинственный / мирный, трудолюбивый/ле-Цнивый и т. п. И не потому, что эти категории «ненаучны» вооб-Лде Они «ненаучны» лишь в том случае, когда применяются ^абстрактно, без учета конкретных обстоятельств (исторических, бчюциальных, ситуационных), в которых они проявлены. Так, | один и тот же человек придворного круга с равным успехом мо-Цжет быть определен и как «человек чувствительный» (в делах 1уЛЮбовных), и как «человек государственный» (при исполнении
I чиновничьих обязанностей), и как «человек исторический» (брач-
II но-семейные отношения), и как «человек спасающийся» (в ипо-|-стаей последователя учения Будды) и т. д., причем определение | зависит в данном случае не столько от точки зрения исследо-.вателя, сколько от ситуации, в которой эти свойства проявлены с наибольшей последовательностью. Поэтому всякие попытки реконструкции психотипа личности или же этноса, предпринимаемые на основе ограниченного числа типов текстов (в евро--,,.! пейской традиции — обычно на материале поэзии и прозы арис-Ц тократов), заведомо неполноценны и искажают реальную кар-|; тину. Задача исследователя состоит прежде всего в выделении и описании ситуаций, сопряженных с типом эмоциональной и интеллектуальной реакции. Только совокупность таких ситуа-I.ций дает приближение к ускользающей реальности. Применительно к прошлому жанр словесности позволяет выделять такие ситуации в наиболее чистом виде, в чем и состоит гуманитарная, т. е. общекультурная, значимость этого понятия, позволяющая преодолевать его узколитературные рамки.
ЛИТЕРАТУРА
Абэ, 1956.— Абэ Такэхико. Кодзики-но сидзоку кэйфу (Генеалогия в «Кодзи-ки»).— «Кодзики тайсэй». Т. 4. Токио, 1956.
Акамацу, 1957.— Акамацу Тосихидэ. Гукансё ни цуйтэ (К вопросу о «Гукансё»).— Камакура буккё-но кэнкю. Киото, 1957.
Бакус, 1985.— ТЬе К1Уегз1с1е Соипзе1ог 5{опез. Уегпаси1аг Р1с(юп о! 1^а\е Не1ап Ларап. ТгапзЫеё, \уНЬ ап 1п1гос1исНоп апй Мо1ез Ьу КоЬег! Ь. Васкиз. 5{ап{огй СаШогша Ргезз. 51ап[огс1, СаШогша, 1985.
Барг, 1987.— Барг М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987.
Бендер, 1979.— Вепаег К. ТЬе НасЫтап СиН апс! Ше Пбкуб 1пс1(1еп1.— Мопи-тегйа №ррошса, XXXIX, 1979, № 2.
Блок, 1986.— Блок М. Апология истории. М., 1986.
Богатырев, 1958.— Богатырев П. Г. Некоторые задачи сравнительного изучения этноса славянских народов.— IV Международный съезд славистов. Доклады. М., 1958.
Бок, 1985.— ВосЬ. РеИаа О. С1а5з!са1 Ьеагп!п§ апс! Тао!з1 РгасКсез т Еаг1у Ларап. \У1Ш а Тгапз1а(юп о! Воокз ХУ1&ХХ о{ Ше ЕпдьзЫИ. Апгопа 5Ые ишуегзНу, 1985.
Бонэн-но ки, 1981 — Оэ-но Масафуса. Бонэн-но ки. Сер. «Нихон сисо тайкэй».
Т. 8. Токио, 1981. Борген, 1982.— Вогдеп КоЬег1. ТЬе Ларапезе Мгззюп 1о СЫпа, 801—806. Мопи-
теп1а №ррошса. XXXVII. 1982, № 1. Воронина, 1978.— Воронина И. А. Поэтика классического японского стиха
(VIII—XIII вв.). М., 1978.
Воронина, 1981.— Воронина И. А. Классический японский роман. М., 1981. Боуринг, 1985.— МигазаЫ 5Ык1Ьи. Нег В1агу апс! РоеНс Мето1гз. А Тгапз1а-
Ноп апй 5{ис1у Ьу ШсЬагё Вотлтшд. Рппсе^оп ОшуегзЛу Ргезз (далее —
О. Р.), 1985. Брюстер, 1977.— Запике по 5ике №кИ. А Тгапз1а1юп о! Ше Етрегог Ноп-
катуа О1агу. Ву ЛептГег Вге\уз1ег. ТЬе Аиз1га11ап №1юпа1 11Р апс! 11т-
уегзНу о{ На\уап Ргезз. 1977.
Брагинская, 1983.— Брагинская Н. В. Эпитафия как письменный фольклор.—
Текст: семантика и структура. М., 1983. Брауер и Майнер, 1962.— Вгошег К., М1пег Е. Ларапезе СошЧ Рое1гу. 51ап-
{огй, 1962. Браун и Исида, 1979.— Пе1пгег К. вплуп апй 1сЬ1го 1зЫйа. ТЬе Ри1иге апй
(Ье Раз4. А Тгапз1аНоп апё 81ийу оГ Ше СикапзЬо, ап 1п4егргеНуе Н1з1:огу
оГ Ларап ШгЩеп 1п 1219. Вегке1еу—Ьоз Ап§е1ез—Ьопйоп, 1979. Бунка сюрэйсю, 1964.— Бунка сюрэйсю. В серии Нихон котэн бунгаку тай-
кэй. Т. 69. Токио, 1964.
Бункё хифурон, 1948.— Бункё хифурон ко. Киото—Токио, 1948—1953.
Вака бунгаку, 1984 — Вака бунгаку кодза (Лекции по литературе «вака»),
Т. 3. Токио, 1984. Верли 1979.— Vат^еу Н. Раи1. ТЬе Р1асе о! ОикапзЬб т трапезе 1п{е11ес1иа1
Н1з1огу.— Мопшпеп1а №рротса, XXXIV, 1979, № 4. Вершуер. 1985.— СНаг1оШ Vоп ]/ег$сНиег. Ьез Ке1аНоп8 ОГЯаеПез Йи Лароп
ауес 1а СЬ!пе аих уЩе е! IX з!ёс1ез. Наи1ез Е1и<1ез Ог1еп1а1ез 21.
Огог. Сепеуа—Рапз. 1985.
Виссер, 1935.— Уизег М. ТР. Апс!еп1 ВиййЫзт т Ларап. Ье!с1еп 1935 Гангодзи, 1975.— Гангодзи гаран энги. Сер. «Нихон сисо тайкэй» Т 20
Токио, 1975. Гаттен, 1982.— ОаИеп АИееп. ТЬгее РгоЫетз т Ше Тех! о! «1Л<!{ипе» _ иЫ-
Гипе. Ьоуе 1п Ше Та1е о{ Оеп]1. Со1итЫа 11Р. N. V., 1982.
Глускина, 1979.— Глускина А. Е. Заметки о японской литературе и театое
М., 1979. И '
Горегляд, 1975.— Горегляд В. Н. Дневники и эссе в японской литературе IX_
XIII вв. М., 1975.
Горегляд, 1983.— Горегляд В. Н. Ки-но Цураюки. М., 1983. Гукансё, 1967.— Гукансё. Сер. «Нихон котэн бунгаку тайкэй». Т. 86 Токио,
1967.
Гуревич, 1972.— Гуревич А. Я- Категории средневековой культуры. М., 1972. Гуревич, 1975.— Гуревич А. Я- Язык исторического источника и социальная действительность: средневековый билингвизм.— Труды по знаковым системам. VII. Тарту, 1975. Гуревич, 1981.— Гуревич А. Я- Проблемы средневековой народной культуры.
М., 1981.
Гусдорф, 1980.— Оизаог! Оеогцез. СопсННопз апс! ЫтНз о! АиЫлод;гарЬу.— Л. О1пеу. Ей. Аи1оЫодгарЬу. Еззауз ТЬеогеИса! апй СгШса!. РппсеЬп 11Р. 1980. Гэндзи, 1972.— Гэндзи моногатари. Сер. «Нихон котэн бунгаку тайкэй». Т. 14—
18. Токио, 1972—1978.
Гэнсин, 1970.— Гэнсин. Сер. «Нихон сисо тайкэй». Т. 6. Токио, 1970. Дайрисики, 1975.— СНагИег ШсНае1. Паз Ваш-зЫЫ: Еше 5ШсНе ги зешег
ЕпЫеЬип^ ипй \№1гкипд. Ойо Наггаззочуйг. \\Пе5Ъао'еп, 1975. Деопик, Симонова-Гудзенко, 1986.— Деопик Д. В., Симонова-Гудзенко Е. К- Методики различения легендарно-мифологической и реально-исторической частей генеалогического древа (на материале японской хроники «Кодзики»).— Математика в изучении средневековых повествовательных источников. М., 1986. Дзусэцу, 1979.— Дзусэцу нихон-но котэн (Японская классическая литература
в иллюстрациях). Т. 5. Токио, 1979.
Древние фудоки, 1969.— Древние фудоки. Пер., предисл. и коммент. К. А. Попова. М., 1969.
Ермакова, 1988.— Ермакова Л. М. Ритуальные и космологические значения в японской поэзии.— Архаический ритуал в фольклорных и раннелите-ратурных памятниках. М., 1988.
Ермакова, 1988а.— Ермакова Л. М. Логос и мелос: японская вариация.— Проблемы исторической поэтики литератур Востока. М., 1988. Ермакова, 1991.— Норито. Сэммё. Пер., предисл, и коммент. Л. М. Ермаковой.
М., 1991. Ермакова, Мещеряков, 1988.— Ермакова Л. М., Мещеряков А. Н. Растения
и животные в японской поэзии.— Природа. 1988, № 11. Игнатович, 1987.— Игнатович А. Н. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории.
|
|
Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 429; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!