
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Wie sag’ ich’s meinem Kinde?! 2 страница
|
|
|
|
Но очень быстро сюда вплетается и третий венец революций {49} начала XIX века: «Les Misérables»[23] Виктора Гюго. Здесь вместе с романтикой баррикадных боев уже входят и элементы идей, вокруг которых бились на этих баррикадах. Достаточно младенческая по глубине социальной своей программы, но страстная в своем изложении проповедь Гюго о социальной несправедливости как раз на том уровне, чтобы зажечь и увлечь подобными мыслями тех, кто юн и только вступает в жизнь идей.
Так получается любопытный космополитический клубок впечатлений моей юности.
Живя в Риге, я владею немецким языком лучше русского. А мыслями вращаюсь в истории французской.
Но дело развивается.
Интерес к коммуне не может не втянуть в орбиту любопытства 1852 год[xli] и Наполеона III. И тут на смену эпопеям Дюма, волновавшим в двенадцать — пятнадцать лет, вступает эпопея «Ругон-Маккаров» Золя, забирающая в свои цепкие лапы уже не только юношу, но уже начинающего — еще совсем бессознательно — формироваться будущего художника[xlii].
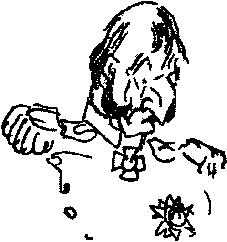
{50} Незамеченная дата[xliii]
«Сам» Аркадий Аверченко забраковал его —
мой рисунок.
Заносчиво, свысока, небрежно бросив:
«Так может нарисовать всякий».
Волос у него черный.
Цвет лица желтый.
Лицо одутловатое.
Монокль в глазу или манера носить пенсне с таким видом, как будто оно-то и есть настоящий монокль?
Да еще цветок в петличке.
… Рисунок действительно неважный.
Голова Людовика XVI в сиянии
над постелью Николая II.
Подпись на тему: «Легко отделался». (Перевод на русский слова «veinard»[24] не сумел найти…)
Аркадий Аверченко — стало быть, «Сатирикон» — и тема рисунка легко локализируют эпизод во времени.
Именно к этому времени он и относится.
|
|
|
Именно об эту пору грохочет А. Ф. Керенский против тех, кто хотел бы на Знаменской площади увидеть гильотину.
Считаю это выпадом прямо против себя.
Сколько раз, проходя мимо памятника Александру III, я мысленно примерял «вдову» — машину доктора Гильотена — к его гранитному постаменту… Ужасно хочется быть приобщенным к истории. Ну а какая же история без гильотины!
… Однако рисунок действительно плох.
Сперва нарисован карандашом.
Потом обведен тушью.
Рваным контуром, лишенным динамики и выразительности непосредственного {51} бега мысли или чувства.
Дрянь.
Вряд ли сознаюсь себе в этом тогда.
Отнести «за счет политики» (в порядке самоутешения) — не догадываюсь.
Отношу за счет «жанра» и перестраиваюсь на «быт».
Быт требует другого адреса.
И вот я в приемной «Петербургской газеты».
Вход с Владимирской, под старый серый с колоннами ампирный дом.
В будущем там будет помещаться Владимирский игорный клуб.
Узким проходом, отделанным белым кафелем, как ванная комната или рыбное отделение большого магазина.
В этой приемной, темной, прокуренной, с темными занавесками, я впервые вижу деятелей прессы между собой.
Безупречно одетый человек с физиономией волка, вздумавшего поступить на работу в качестве лакея, яростно защищает свое монопольное право «на Мирбаха».
Убийство Мирбаха — сенсация самых недавних дней[xliv].
Кто-то позволил себе влезть с посторонней заметкой по этому сюжету.
В центре — орлиного вида старец.
Точно оживший с фотографии Франц Лист.
Седая грива.
Темный глубокий глаз.
От Листа отличают: мягкий и не очень чистый, к тому же светский, а не клерикальный воротник и отсутствие шишек, которые природа так щедро разбросала по лику Листа.
Очень импозантный облик среди прочей табачного цвета мелюзги.
В дальнейшем я узнаю, что это Икс — очень известная в журналистских кругах персона.
Известная тем, что бита по облику своему более, чем кто-либо из многочисленных коллег.
|
|
|
Специальность — шантаж.
Притом самый низкопробный и мелкий.
… Однако меня зовут в святилище.
В кабинет.
К самому.
К Худекову.
Он высок.
{52} Вовсе неподвижен над письменным столом.
Седые волосы венцом.
Красноватые припухшие веки под голубовато-белесыми глазами.
Узкие плечи.
Серый костюм.
В остальном — это он написал толстую книгу о балете[xlv].
Предложенный рисунок — по рисунку более смелый, чем предыдущий.
Уже прямо пером. Без карандаша и резинки.
По теме он — свалка. Милиции и домохозяек.
«Что это? Разбой?» — «Нет: милиция наводит порядок».
На рукавах милиционеров повязки с буквами «Г. М.»[xlvi].
Такую повязку я носил сам в первые дни февраля. Институт наш[xlvii] был превращен в центр охраны тишины и порядка в ротах Измайловского полка.
Худеков кивает головой.
Рисунок попадает в корзиночку на столе.
В дальнейшем — на страницу «Петербургской газеты».
Я очень рад. Подумать только: с юных лет ежедневно я вижу этот орган печати.
И до того, как подают газету папаше, жадно проглатываю сенсационно уголовные «подвалы» и «дневник происшествий».
Сейчас — я сам на этих заветных страницах.
И сверх того в кармане — десять рублей.
Мой первый заработок на ниве… etc.
Второй рисунок.
На тему о том, до какой степени жители Петрограда привыкли к… стрельбе.
(Стало быть, в городе об это время постреливают. Да, видно, и не так уж мало.)
Четыре рисуночка по методу crescendo[25].
Последний из них:
«Гражданин, да в тебя, никак, снаряд попал!» — «Да что ты?
Неужели?»
И полснаряда торчит из спины человека.
Глубокомысленно?
Смешно? Хм‑хм…
Но зато… правдиво!
{53} Помню — сам я попал под уличную стрельбу.
По Невскому двигались знамена.
Шли демонстрации.
Я заворачивал на Садовую.
Вдруг стрельба,
беготня.
Ныряю под арку Гостиного двора[xlviii].
До чего же быстро пустеет улица при стрельбе!
И на мостовой. На тротуаре. Под сводами Гостиного — словно кто-то вывернул на панель ювелирный магазин.
Часы. Часы. Часы.
Карманные с цепочками.
С подвесками.
С брелочками.
Портсигары. Портсигары. Портсигары.
Черепаховые и серебряные.
С монограммами и накладными датами. И даже гладкие.
Так и видишь скачущий бег вприпрыжку людей, непривычных и неприспособленных к бегу.
|
|
|
От толчков вылетают из карманов жилетов часы с брелочками.
Из боковых — портсигары.
Еще трости. Трости. Трости.
Соломенные шляпы.
Было это летом. В июле месяце. (Числа третьего или пятого.)
На углу Невского и Садовой.
Ноги сами уносили из района действия пулемета. Но было вовсе не страшно.
Привычка!
Эти дни оказались историей.
Историей, о которой так скучалось и которую так хотелось трогать на ощупь!
Я сам воссоздавал их десять лет спустя в картине «Октябрь», на полчаса вместе с Александровым прервав уличное движение на углу Невского и Садовой.
Только улицы, засыпанной тростями и шляпами, после того как разбежались демонстранты, снять не удалось (хотя специально включенные с массовку люди специально их раскидали).
Несколько хозяйственных старичков из добровольной заводской массовки (кажется, путиловцев) старательно на бегу подобрали имущество, дабы не пропало!
{54} … Так или иначе — рисунок уловил привычку.
Глубокомысленно или смешно?
Не важно!
Передо мной чудо.
Высокий,
стройный,
серые волосы венцом,
каменно неподвижный,
белесоватоглазый с красными припухшими нижними веками, автор толстой книги о балете.
Сам.
Хозяин.
Вдруг… прыснул.
Я даже испугался. Этот рисунок дал мне 25 рублей.
Мало!
Десять и двадцать пять — никак не выходит сорока рублей.
А мне нужно именно сорок.
«История античных театров» Лукомского стоит ровно сорок рублей.
Да и этих тридцати пяти никак не уберечь.
Беру сорок рублей в долг у домашних, покупаю «Историю» и планирую широко раскинуть поле деятельности.
Мне советуют пойти к… Пропперу.
Это — «Биржевка».
Иду на… «Огонек».
Так именуется издаваемый при «Биржевых ведомостях» еженедельный журнал.
Разделом карикатуры там ведает (кажется, безраздельно) Пьер‑О (Животовский).
Барахло ужасное.
И совершенно несправедливо, что он барахло… единственное и безраздельное.
Так или иначе, я у Проппера.
В этот день я просто улизнул из школы прапорщиков инженерных войск, что на Фурштадтской, в бывшем помещении Анненшуле.
Уже несколько дней в школе делается черт знает что.
|
|
|
Занятия не ведутся или ведутся с перебоями.
После сладостно напряженного периода учений в лагерях, — еще романтизированных ночными караулами в дождь и непогоду {55} на шоссе, на подступах к Питеру, в тревожные дни корниловских попыток к наступлению, — после напряженной полукурсовой экзаменационно-зачетной поры (минное дело, понтонное, моторы и т. д.) — вдруг день за днем непонятный застой и томление.
А сегодня утром еще к тому же никому не разрешается выходить за ворота.
Ну, уж это слишком!
Я знаю проходной двор на Фурштадтскую.
И поминай как звали…
Чем шляться из конца в конец по нашим коридорам.
… Я — у Проппера.
Этот — совсем в другом роде.
Приемной вообще не помню.
Вероятно, был «допущен» очень быстро.
Комната очень маленькая.
Никаких ввысь уходящих ампирных окон за тяжелым штофом занавесей.
Сигара в зубах.
Небольшая,
нетолстая
и не очень дорогая.
Ничего от Нерона. (Худекова можно было бы сравнить с покойным императором, только очень похудевшим.)
Что-то от зубного врача.
Острая бородка.
Белый медицинский халат,
с завязками вдоль всей спины, начиная от шеи.
И стола никакого не помню.
Все в движении.
Бантики завязок.
Бородка.
Сигара.
Безудержный поток слов.
В руках у меня пачка достаточно ядовитых рисунков против Керенского.
Тематика Проппера явно смущает.
Автор, видимо, прельщает.
Поток слов скачет безудержно:
«Вы молоды… Вам, конечно, нужны деньги. Приходите послезавтра… Мы все уточним. Я вам дам аванс…» — и т. д. и т. д.
{56} Немного оглушенный, я ухожу, договорившись обо всем…
И где помещалась редакция, я тоже не помню.
И где я садился на трамвай.
И как очутился против Адмиралтейства.
Против Александровского садика.
В этом месте я всегда любил, проезжая, заглядывать на площадь Зимнего дворца, прежде чем ее скроют первые дома на углу Невского.
В Александровском садике торчат голые ветки деревьев.
Много лет спустя, когда я буду работать над сценарием «Девятьсот пятого года», мне врежется в память деталь из рассказа кого-то из участников Кровавого воскресенья о том, как на этих вот деревцах, «словно воробьи», сидели мальчишки и от первого залпа по толпе шарахнулись вниз[xlix].
Здесь свершалось 9 января.
Где-то рядом — 14 декабря.
Даты я эти, конечно, знаю, но в те годы они бытуют где-то сами по себе и довольно далеко от меня.
Площадь меня интересует своим архитектурным ансамблем.
Еще совсем светло.
Где-то в городе идет стрельба.
Но кто на нее обращает внимание?
В «Петербургской газете» даже есть карикатура на эту тему…
За подписью «Сэр Гэй»[l].
Трамвай пошел по Невскому.
Вспоминая, как бегала из угла в угол сигара во рту Проппера, а сам Проппер — из угла в угол светлой маленькой комнатки, я, усталый и довольный, сажусь за разборку заметок, собранных за последнее время в Публичной библиотеке.
Это заметка о гравере XVIII века Моро Младшем.
Цветная гравюра его «La Dame du palais de la Reine»[26] за десятку попала мне в руки из грязной папки одного из самых захудалых антикваров Александровского рынка.
Вскоре она обросла рядом других листов.
А листы — заметками, кропотливо собиравшимися по каталогам граверов в нашем древнем книгохранилище…
Примерно через год тетенька моя par alliance[27] Александра Васильевна Бутовская, унаследовавшая от ослепшего мужа, генерала, {57} одно из лучших собраний гравюр, которые они вместе собирали всю жизнь, — хрупкая старушка, посвящавшая меня в прелести и тонкости Калло (у нее был полный Калло), Делла Белла (у нее был полный Делла Белла), Хогарта, Гойи (не хватит места перечислять, кого только полного у нее не было!) — так вот, примерно через год тетенька (par alliance) Александра Васильевна мгновенно определила, что «лист» мой — вовсе даже не лист, а «листок» — репродукция из калькографии Лувра…
В описываемое же время я был еще полон иллюзий и поглаживал мой лист со всей сладострастностью истинного коллекционера, ласкающего истинное сокровище.
Затем с часок я приводил в порядок заметки о граверах XVIII века.
И отправился спать.
Где-то в городе далеко стреляли как будто больше обыкновения.
У нас на Таврической было тихо.
Ложась спать, я педантично вывел на заметках дату, когда они были приведены в порядок.
25 октября 1917.
А вечером дата эта уже была историей.
* * *
Съемками в Зимнем дворце я нагоняю упущенный кусок истории из собственной биографии[li].

{58} Le bon Dieu[28] [lii]
Обращение с Богом…
Бабушка — Массалитинова и ее молитва (в «Детстве Горького»).
Проповедница в «Табачной дороге»[liii].
У меня разговор с Богом шел почему-то на французский лад:
мы с Богом были на Вы. «Господи Боже мой, да сделайте же…» «Ну дайте же мне, Господи…» по типу «Cher Jésus, ayez la bonté»[29] или «Sainte Catherina, priez Dieu pour nous…»[30], как говорят французы.
Английское «You» давно утратило свое понятие «Вы». «Вы» говорят даже и вонючке («You dirty Skunk»[31]).
В обращении с Богом сохраняется Thou — ты. Так же и немец говорит: «Du lieber Gott»[32].
То, что я пишу, вовсе не «инструктаж», а скорее «история болезни».
Это — не предложение норм, а ряд приключений, совпадений и событий, которые меня формировали, а отнюдь не прописи того, что должен испытать человек, чтобы стать кинорежиссером.
Таков, например, вопрос религии.
По-моему, доля религии в моей биографии была мне очень на пользу.
Но религия должна быть в меру, ко времени и к месту.
И определенного сорта.
Догматическое религиозное воспитание — это бред: a stifling[33] живого мятущегося начала.
{59} Также и catholicisme pratiquant[34] не нужно.
От религии хорош «фанатизм», который потом может отделиться от первичного предмета культа и «переключиться» на другие страсти…
You have to have this experience[35], или, не прибегая к обобщению, скажу про себя: I had to have[36].
Страстная Седмица в Суворовской церкви, последняя исповедь — в 1916 году (?).
Любая церковь знает Папу — догмат и примат мирских дел.
И любая же церковь знает противоположное — босого св. Франциска, лобзающего прокаженного, и нищенствующих божьих псов (domini canium).
Любопытно, что внутри русского православия бурлили те же две линии и, конечно, так же непримиримо.
До работы над «Иваном Грозным» я не особенно вникал в этот вопрос.
И вник по особой причине.
«Сочинив» Пимена, о котором исторически очень мало известно, кроме его заговора и расправы с ним Ивана (задом наперед на кобыле по тракту Новгород — Москва), я вдруг усомнился — не слишком ли он… испанец.
Post factum (как почти во всем сценарии) — стал искать оправданий. И именно XVI век знает именно эту же пару и в России.
Иосиф Волоцкий и иосифляне — русский орден наподобие иезуитов with political aims[37]. (Переписка митрополитов об Испании и Франции.)
И — Нил Сорский — русский Сен-Франсис[38]. (Старец Зосима и Великий инквизитор Достоевского[liv] в известной степени несут на себе традицию этой пары. Хотя живьем Зосима — Серафим Саровский и еще более Тихон Задонский.)
Мне кажется, что линия вторых — экстатиков, мечтателей, «медитаторов» — в некоторой дозе — в творческой биографии не вредна.
Если она не засасывает в религию навсегда!
Иосифлянская — другое дело.
Я помню краткое, но интенсивное впечатление этой линии Нила.
{60} Священник Суворовской церкви на Таврической улице.
Переживание Страстной Седмицы как недели сопереживания Страстей Господних.
В слезах, измученный, в свечах, в неустанных требах, в давке, в шепотах исповеди, в отпущении грехов — я его помню.
Ни имени, ни фамилии не сохранила память.
Родственное этим впечатлениям звучало из упоения Эль Греко в дальнейшем.
С чудовищных, страшных и великолепных страниц о Страстной Седмице в «Молодости автора» Джойса[lv].
С полотна братьев Ленен «Святой Франциск в экстазе».
Исповедь в его руках была актом — раскрытием души в созерцании, в высказывании того, что наболело или чем морально страдал.
Это не холодный отсчет вопросов и ответов Требника.
(В эту часть прописи я тоже заглянул впервые в связи с «Иваном», в связи со сценой исповеди царя[lvi] — этот список норм физиологической и общественной самозащиты примитивной общины, грехом клеймящей все то, что могло бы нанести вред ее биологической и ранней социальной жизненности.)
Если бы кто-нибудь сказал, что у отца — я, кажется, вспомнил! — отца Павла проступал в эти дни кровавый пот на лбу, в отсветах свеч при чтении Двенадцати Евангелий[lvii] — я бы не взялся поклясться, что это было не так!
Вот, вероятно, одна из предпосылок, почему Эль Греко — «Гефсиманский сад» в Национальной галерее в Лондоне — поразил как знакомое, как уже где-то виденное.
Красивая легенда «Моления о Чаше» первичным абрисом входила в круг представлений в маленькой церкви из далекого [села Кончанского] (место ссылки Суворова), благоговейно перевезенной на Таврическую улицу и заботливо одетой каменной ризой здания, предназначенного ее беречь.
Вопль красок «Гефсиманского сада» Эль Греко.
Отец Павел had to be an experience[39], и как только эта experience[40] была пережита, я из круга этих эмоций и представлений практически вышел, сохранив их в фонде аффективных воспоминаний.
{61} В исповеди царя Ивана, конечно, разгорелся вовсю этот комплекс личных переживаний, где-то в памяти теплившихся, подобно блекло мерцающим и неугасимым лампадам.
А живые впечатления грудились одно над другим.
Последующее сильное и законченное впечатление на этих путях было… розенкрейцерство[lviii].
Невообразимо! Минск. 1920 год.
Разгар гражданской войны.
Минск, только что освобожденный нами.
Въезжаем чуть ли не первыми с Политуправлением Западного фронта.
Расписываю агитпоезда еще в Смоленске. В Минске строю передвижную сцену. Пишу задник для «На дне». Утро после работы. Шоколад за церковью с обытовленными фресками жития Христа (в костюмах XX века — en continuant la tradition[41]) […][lix]
И вдруг афиша лекции для красноармейцев «О теории смеха Анри Бергсона» проф. Зубакина[lx].
Слушаю. Not very much impressed.
More impressed by himself[42].
И не столько на лекции, сколько на другой день.
Представьте небольшую фигурку.
Явно экклезиастического покроя.
Черное длинное пальто, силуэтом похожее на сутану.
Черная шляпа.
Черная борода — короткая, обегающая как бы траурной рамкой чрезмерно бледное лицо.
Серо-голубые глаза.
И черные нитяные перчатки.
На углу улицы.
Раскрыв маленькую черную книжечку,
погружен в чтение.
Кругом грохот повозок.
Артиллерия.
Лошади.
Проволочные заграждения и рогатки около временного помещения прокуратуры.
Воинские соединения.
{62} Топот ног.
И маленькая фигурка в черном — что-то вроде честертоновского патера Брауна, углубленная в чтение посреди всей военной суеты свежезанятого западного города.
Книжечка — не молитвенник.
А последнее, что я мог предположить, — новеллы Мопассана.
Но и человечек не патер, а, как ни странно — по ихнему разряду — гораздо больше: епископ!
Но епископ не канонической.
А епископ… розенкрейцеровский.
Богори второй, «в миру» — профессор литературы и философии (?) — Зубакин, а сейчас временно — клубный инструктор и лектор.
Я никогда не забуду помещение «ложи» в Минске!
В проходном дворе — одноэтажный дом, занятый под красноармейский постой.
Несколько комнат с койками, портянками, обмотками, гармонью и балалайкой.
Почему-то озабоченные и задумчивые красноармейцы.
Маленькая дверь дальше.
За дверью что-то вроде бывшего кабинета с письменным столом с оторванными дверцами.
Дальше еще дверь в совсем маленькую комнатку.
Мы приходим туда — несколько человек.
Громадного роста, состоявший когда-то в анархистах, дегенерировавший русский аристократ с немецкой фамилией. Неудачник — сын одного из второстепенных русских композиторов[lxi].
Актер Смолин из передвижной фронтовой труппы. Между исполнением [роли] Мирцева в пьесе «Вера Мирцева» (той пьесе, что начинается в темноте с выстрела, которым жена прокурора убивает любовника, и пьеса строится на том, как шаг за шагом прокурор приходит к уверенности, что убийца — его жена) он лечит мигрени наложением рук и часами смотрит в кристальный шар в своем номере гостиницы.
Тренькает за дверью балалайка.
Стучат котелки с ужином из походной кухни во дворе.
А здесь — накинув белую рубаху поверх гимнастерки и обмоток — трижды жезлом ударяет в пол долговязый анархист.
Возвещает о том, что «епископ Богори готов нас принять».
Омовение ног посвящаемым руками самого епископа.
Странная парчовая митра и подобие епитрахили на нем.
{63} Какие-то слова.
И вот мы, взявшись за руки, проходим мимо зеркала.
Зеркало посылает союз наш в… астрал.
Балалайку за дверью сменяет гармонь.
Стучат опустевшие котелки…
Красноармейцы уже веселы.
Печаль их была ожиданием ужина.
А мы уже… рыцари.
Розенкрейцеры.
И с ближайших дней епископ посвящает нас в учение Каббалы и [в] «арканы» Таро[lxii].
Я, конечно, иронически безудержен, но пока не показываю виду.
Как Вергилий Данте, водит нас Богори по древнейшим страницам мистики.
По последним «печатям тайны».
Я часто засыпаю под толкования «арканов». В полусне барабанит поговорка: «В одном кармане — блоха на аркане…» На второй половине поговорки: «… в другом — вошь на цепи» — цепенею и засыпаю.
Не сплю, кажется, только на самой интересной части учения, все время вертящегося вокруг божеств, Бога и божественных откровений.
А тут на самом конце выясняется, что посвященному сообщают, что «… Бога нет, а бог — это он сам».
Это мне уже нравится.
И очень мне нравится систематизированный учебник «оккультизма», где прописи практики начинаются с разбора «зерен» (одинаково полезного занятия как для воспитания внимания по системе Константина Сергеевича[lxiii], так и на первых шагах к умению шпиона — вспомним «детские игры» в «Киме» Киплинга!) и кончаются практическим достижением… элевации.
… Несколько лет спустя на развале у Китайгородской стены — сейчас ни развала и ни стены — я нахожу этот «учебник» за трешку, и сейчас он покоится рядом с «Историей магии» Элифаса Леви — на полках моей библиотеки, отданных под «науки неточные» (магия, хиромантия, графология, о которых в других местах[lxiv]).
Осенью того же, 1920 года «рыцари» по долгу службы, за исключением долговязого и артиста-целителя, куда-то пропавших, — в Москве.
{64} Среди новых адептов — Михаил Чехов и Смышляев. В холодной гостиной, где я сплю на сундуке, — беседы.
Сейчас они приобретают, скорее, теософский уклон. Все чаще упоминается Рудольф Штейнер. Валя Смышляев пытается внушением ускорять рост морковной рассады. Павел Андреевич увлечен гипнозом[lxv]. Все бредят йогами. Михаил Чехов совмещает фанатический прозелитизм с кощунством.
Помню беседы о «незримом лотосе», невидимо расцветающем в груди посвященного. Помню благоговейную тишину и стеклянные недвижно устремленные к учителю очи верующих.
Мы с Чеховым уже на улице.
Тонкая пелена снега. Вечер.
Собачка за собачкой игриво носятся около фонарного столба.
«Несомненно, в незримом лотосе что-то есть, — говорит Чехов, — вот возьмите собачек. Мы не видим ничего. А они что-то друг у друга вынюхивают под хвостиками…»
Цинизм этого типа обычно неразлучен с верой. Таков и Чехов.
Здравомыслящим остаюсь я один.
Я то готов лопнуть от скуки,
то разорваться от смеха.
Наконец, меня объявляют «странствующим рыцарем» — выдают мне вольную — и я стараюсь раскинуть маршруты своих странствий подальше от розенкрейцеров, Штейнера, Блаватской.
Еще страница впечатлений позади…[lxvi]

{65} Новгород — Los Remedies[lxvii]
Из земли бьет водяной столб в четыре этажа высотой.
Он похож на гейзер из учебника географии.
У него слегка сернистый запах…
И это еще сильнее напоминает нам свежие, пахнущие типографской краской учебники в те дни, когда они еще интересны, в тот первый вечер, когда листаешь только что купленную книгу не как нудную духовную пищу, а как… библиофил.
В такие вечера учебники, особенно географические, выбрасывают в жизнь как бы векселя впечатлений, которые когда-нибудь будут подлежать оплате. Всем известная картинка почтовой кареты, проезжающей через ворота, прорубленные сквозь ствол гигантского дерева, будет мучить память, пока не удастся самому проехать через такую гигантскую прорубленную секвойю в американских лесных заповедниках.
Так было со мной.
Интересно, что порода деревьев «секвойя» названа в честь индейского вождя Секойя, а отдельные древесные гиганты носят фамилии большей частью в честь генералов гражданской войны, хотя среди них было больше «дубов».
Самая крупная секвойя носит имя генерала Шермана, сжегшего в свое время Атланту.
Столб воды, бьющий из земли, до известной степени помогает избавиться от idée fixe[43], неотвязно связанной с другой картинкой, изображающей гейзеры Йеллоустонского парка.
Может быть, этот фонтан оказался виновником, почему я в Йеллоустон не поехал, а удовлетворился парком Иосемите.
… В самом фонтане днем преломляются лучи солнца.
А вечером он горит в лучах разноцветных прожекторов.
{66} Бьет он перед зданием курзала. Вокруг него мечутся орды растерянных людей.
Почему-то это лето, последнее перед окончанием реального училища, я живу не с папенькой на Рижском взморье, а с маменькой в Старой Руссе.
Фонтан бьет перед курзалом Старой Руссы.
А люди мечутся в истерике, потому что это — июль месяц 1914 года и только что объявлена война.
В галереях курзала рыдают, бросаясь друг другу в объятия, посторонние люди.
В креслах на колесах навзрыд плачет прикрытый клетчатым пледом полковник в черных очках, сняв фуражку и обнажив убогую растительность на голове…
Так же кидались люди друг к другу три года спустя, когда по Петрограду внезапно пронеслась весть о том, что убит Распутин[lxviii].
Он незримо присутствовал в семнадцатом году в каждом доме, под каждой черепной коробкой, [был] темой каждой сплетни.
Только «Вечерняя биржевка» успела втиснуть строку о его убийстве — и то только в перечень заголовков содержания номера.
Номер был мгновенно конфискован.
И я горжусь, имея где-то один экземпляр, чудом попавший мне в руки в тот памятный день.
… Но сейчас паники, конечно, больше. И вокзал уже забит до отказа людьми.
Из Руссы невозможно выехать поездом.
Кто-то надоумил ехать пароходом через озеро Ильмень по Волхову, там — поездом от Тихвина.
Это лето принесло мне три сильных впечатления.
До объявления войны в разгар июльской жары я видел крестный ход в престольный праздник у вновь открывшейся церковки в Старой Руссе.
Живые впечатления от него легли в основу крестного хода в «Старом и новом».
Вторым значительным событием была моя первая в жизни «литературная встреча» — встреча с Анной Григорьевной Достоевской[lxix].
Но самое сильное было — trip[44].
{67} Белые церковки, сгрудившиеся, как святые в белых стихарях на древних иконах, где они почти сливаются воедино.
Война заставила сказочно прекрасно проплыть по древнейшему куску нашей страны.
В остальном война меня в тот год тронула мало.
В течение этого последнего учебного года мы несколько раз ходили на манифестации.
Кричали до хрипоты.
Носили портреты царя и факелы, которые копотью забивали ноздри.
Папенька надел военную форму и генеральские погоны…
А весной следующего года я пережил первую эвакуацию — выезд чиновных семейств из города Риги.
Это совпало с переездом в Питер для поступления в институт[lxx].
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 424; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!