
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Истинные пути изобретания 4 страница
|
|
|
|
Но мало этого: «выход из себя» не есть «выход в ничто». Выход из себя неизбежно есть и переход в нечто другое, в нечто иное по качеству, в нечто противоположное предыдущему (неподвижное — в подвижное, беззвучное — в звучащее и т. д.).
Таким образом, уже из самого поверхностного описания экстатического эффекта, который производит пафосное построение, само собой явствует, каким основным признаком должно обладать построение в пафосной композиции.
В этом строе по всем его признакам должно быть соблюдено условие «выхода из себя» и непрестанного перехода в иное качество.>
Однако это только часть проблемы — наиболее мне нужной — «оперативной».
Свою «систему эстетики», которую я, может быть, когда-нибудь и соберу, я назову эстетикой оперативной.
Как делать.
Как «делать» пафос — ясно.
Но полная картина экстаза требует еще и отчетливости, скажем, в вопросе того, каким психологическим состоянием является экстаз.
Достаточно правильно назвать процесс поведения, связанного с экстазом, чтобы сейчас же найти если не полный ответ, то совершенно точное указание, в каком направлении искать.
Мы непременно говорим — «погружение» в экстаз, «погрузиться» в экстаз.
И это несмотря на чувство «воз‑несения» и «вос‑хищения», которое наполняет самого экстатика.
Конечно, одного орфографического анализа здесь недостаточно.
И чтобы понять, насколько исчерпывающе точно глагольное, сопутствующее экстазу процессуально динамическое обозначение, нужно сперва сделать громадный объезд через творения великих мастеров «самопогружения» в экстаз.
{61} Психологическая рецептура, сведенная в комментариях к духовным экзерцициям; знак равенства между механизмом психической медитации и основой физической системы в практике хлыстов[xlv], дервишей или мексиканских дансантес. Сопоставление западной практики с восточной. Индусские экстатики, Будда и нирвана. Экстаз пророков древней Иудеи и лурдского массового психоза. И т. д. и т. д.
|
|
|
На нирвану и истолкование ее как психического состояния возврата в утробное состояние я натыкаюсь довольно быстро.
Время уходит, скорее, на всесторонность рассмотрения, чем на освоение самого феномена.
Спасибо и психоаналитикам на этом пути.
Здесь и ключ, который держит к прочтению явления глагол «погрузиться».
Здесь же ключ к правильному прочтению самого глагола!
Возврат в утробное состояние!
Вот где основа психической картины самоощущения в экстазе.
Однако в экстазе интересно не инертное безжизненное состояние.
А интересен момент… «озарения».
Значит, не длительность «пребывания».
Но вспышка свершения.
Становления.
Экстаз очень быстро формулируется как соучастие в мгновении «становления» так, как его понимает диалектика: момент перехода количества в качество, момент возникновения (ощущения) единства в многообразии, момент свершения единства противоположностей.
Где же этот момент в пределах практики отдельной человеко-единицы?
Та точка, которая в порядке личного опыта включается всей своей первичной мощью с каждым моментом аналогичных ситуаций по дальнейшим путям становления и развития человеко-единицы.
Эта точка, естественно, выпихивается к самому первому мгновению утробного бытия — к низшему и внутри его порогу.
К моменту внедрения будущей человеко-единицы в утробу.
О погружении в утробу написано не так уж мало (например, д‑р. Александер о нирване в «Imago»[xlvi]).
О «выходе на свет» прекрасно пишет Rank в «Das Trauma der Geburt».
{62} Но о божественности of the first spark[26] я что-то ничего не могу припомнить.
Между тем «озарение» — момент в пределах личного опыта, конечно, здесь. И именно здесь в одном мгновении «в моменте»… monsieur, madame et bébé.
|
|
|
Monsieur et madame, по Гегелю, уничтожают «свою самость» и сливают противоположности в единство.
И в этом мгновении возникает физический носитель этого единства — bébé.
Вопрос «озарения» (а все экстатики говорят и вспоминают об ослепительном свете) объясняется с элегантной простотой.
Эта — самая первая — травма неминуемо сливается в сознании (предсознании?), в ощущении (предощущении?), в памяти (предпамяти?) со второй капитальной травмой — с травмой рождения, с травмой выхода на свет. (Об этой травме — исчерпывающе см. у Rank’а.)
Травмы сливаются воедино: в течение расстояния в девять месяцев утробного бытия ведь нет еще представления о времени!
И точка начала совпадает с точкой конца!
(Я выше забыл еще упомянуть самого замечательного из авторов — Ференчи, излагающего все это в «Versuch einer Genitaltheorie»[27] и добавляющего сюда еще вопрос о тенденции к смерти. Так же и регресс сквозь «виды» одушевленной природы до стадии… неодушевленной!)
Пафос очень быстро прочитывается как степень.
Не как нечто эволюционно не связанное с другими менее интенсивными видами состояния поэтического материала.
Но как органически непрерывное, отличное градусом и неизбежной качественной новизной на определенном уровне количественной интенсивности.
Отсюда сейчас же выводы.
Патетический взлет, патетическая вспышка, мгновенность — это только сведенность в узел тех черт, которые, в legato[28] разведенные, определяют всякую вообще воздейственность.
И степени разведенности прямо пропорциональной окажется интенсивность.
{63} Масса переживает единство в мгновении (патетическом) порыва — патетически.
Но единство массы (например, народа) может выступать постепенно, как вывод (а не как взрыв!) из объемистого труда истории.
Сознание единства будет и тут и там.
Эмоциональная окрашенность этого сознания и ощущения будет одного и того же порядка.
Но градус состояния — глубоко различен.
Такое же положение будет и в области средств и методики.
И постепенный перевод, скажем, из противоположности в противоположность будет такой же необходимой основой вездейственности, но будет протекать не в виде (не в форме) дух захватывающего «скачка» в патетическом произведении, но «плавно» снижаясь по степени непосредственной интенсивности в формах от романа к повести и хронике, от трагедии к драме и пьесе…
|
|
|
Мультипликаторный скач через нормальный темп к замедленности slow motion[29] в средствах динамики кинематографа — как бы пластическое отражение того, чем служат эти степени снижающейся интенсивности.
Представьте себе все эти три вида съемки, последовательно приложенные к одному и тому же явлению — взрыву! — и вы получите полную картину.
Те же клубы дыма, те же разлетающиеся рельсы и балки, те же облака пыли.
Но ответный взрыв чувств в одном (первом случае) и плавно воспринимающее созерцание в другом (третьем).
В приемах же и средствах — вопрос степени погруженности, вопрос степени регресса, вопрос степени возврата к «нулевой» точке.
И взрыв кажется пущенным обратным ходом аппарата снова к начальной точке. Ибо только через возврат к этому нулю возможен его новый взлет. И чем ближе к нулю, тем полнее и сокрушительнее его всеобъемлющий взлет!
Средства воздействия как сколки со строя все ниже и ниже лежащих слоев сознания (предсознания).
Нейтральная форма — со слоев сознания сегодняшнего уровня.
{64} Произведения лишены подспудной хватки — того grip, который характерен для произведений, не апеллирующих к lower layers[30] сознания и чувств.
Ортодоксальная форма — как сколок со слоев первобытного мышления.
Патетическая форма — зарывающаяся в profbundest layers[31], заходящие дальше пределов чувственного мышления в область инстинкта, вазомоторных, электрических, химических, физических явлений.
(A noter[32]! Форма здесь обнимает и понятие сюжета как одного из первых средств материализации желания выразиться.
Для третьего случая, например, тематическим примером может служить Revenge Tragedy как воплощение первичного физического закона действия, равного противодействию. А сцена погони — из области инстинктов — охотничьего инстинкта.)
Как великолепно говорит Herman Melville в «Moby Dick’е»:
|
|
|
«… for I believe that much of a man’s character will be found betokened in his backbone. I would rather feel your spine than your skull, whoever you are…»
Глава об «actual taking of the sperm vil from a whale’s head»[33].
И я атакую гарпуном моего воздействия именно эти слои.
И стараюсь проникнуть в них глубже и глубже.
Но средства мои — сколки с этих слоев[xlvii], ибо только через сколки их могу я заставить вибрировать слои эти в унисон с моим волеизъявлением.
Но слои «backbone»[34] и «spine»[35] — это слои уровня пребывания в утробе, повторяющего общий график развития видоизменения и произрастания друг из друга форм и видов.
Так на путях и в видах оперативной эстетики.
Но, может быть, так и в абрисе самой психологии?
{65} Может быть, слияние — законное, натуральное, решающее — monsieur, madame et bébé — в решающее мгновение становления мистерии бытия — в моменте зачатия — тоже может протянуться дальше, тоже легативной протяженностью выплыть далеко за рамки мгновенья — в медленное течение биографии?
И вот к чему и шел витиеватый ход изложения.
That is how I feel[36]!
Это возможно и расово.
Возможно и индивидуально-психологически.
Дорогая мне «раса де бронсе» — бронзовая раса мексиканского индио — именно такова.
Мужественная ярость нрава, женственная мягкость очертаний, скрывающая стальную мускулатуру в обтекающих формах внешних покровов мышц, незлобивость и вместе с тем детская капризность ребенка — это сочетание черт в мексиканском индио делает его или ее — muchacho или muchacha[37] — как бы на длительность продолжившимся единством monsieur, madame et bébé.
Взрослые и сложившиеся женщины и мужчины, они кажутся расой отроков и отроковиц в отношении других рас, расой юношества, где юноша еще не утерял первичной женственности, а девушка — мальчишеского озорства, и оба — одинаковой прелести детскости.
Я имею в виду, конечно, идеальный, сквозной, собирательный, синтетический тип и лучшие образцы женщин и мужчин, юношей и девушек, которые проходили перед моим аппаратом и передо мною в долгие месяцы моих скитаний по странной и причудливой, жестокой и нежной, детски прелестной Мексике.
Иногда мне кажется, что и сам я tout à la fois[38] — monsieur, madame et bébé.
Увы, не только в мгновения патетического взлета.
Но и в редкие дни трудолюбивой производительности, когда, уйдя в обличье пытливого ребенка, я решительной рукой хозяина врубаюсь в тяжелые пласты тайн нашего дела и я же руками хлопотливой хозяйки стараюсь собрать и сберечь осколки вырубленной породы, чтобы кубиками сложить их в концепцию.
{66} Кирпичами или кубиками?
В серьезное дело или в детские игрушки?
Но чаще я тоскую в инфантильности перезрелого ребенка, нелепого и беспомощного, жалкого и ничтожного в столкновении с жизнью.
Навечно прикованного к папе и маме (опять же я сам) — двум смертельно надоевшим друг другу, зажившимся друг с другом супругам, супругам, которым ни царь, ни бог и ни герой не могут дать свободы и освобождения друг от друга; которые даже убить друг друга не могут и навсегда обречены расплачиваться тусклыми буднями неразрывного тройного портрета, monsieur, madame et bébé — этим отражением в кривом зеркале божественного мгновения слияния тройной природы человека в моменте вспышки экстаза…
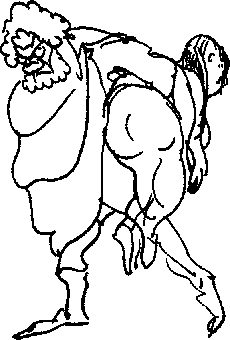
{67} «Светлой памяти маркиза»[xlviii]
«У нас блины сегодня».
«А к нам солдат пришел».
«А у нас блины сегодня!»
«А к нам солдат пришел!»
Так долго и упорно друг перед другом выхвастываются двое мальчишек из старого рассказа.
«У нас блины сегодня!»
«А к нам солдат пришел!»
Хвастаются долго.
Хвастаются упорно.
Пока один не выдерживает и начинает реветь.
Такое хвастовство — типично мальчишеская черта.
А поскольку мы условились вначале, что во мне до сих пор не умер еще мальчишка,
совершенно неудивительно, что все эти страницы неизменно — подспудно или явно — не могут не быть полны хвастовства.
На одной странице я хвастаюсь, что у нас блины сегодня.
На другой — тем, что к нам солдат пришел.
Хвастаюсь не только удачами и «достоинствами», но совершенно так же невзгодами и изъянами.
Чем только не хвастают люди!
Медалью на груди отца.
Деревянной ногой кузена.
Баками дяди. Бородой дедушки. И стеклянным глазом тети Нади.
Отрезанным пальцем.
Вырванным зубом.
Вырезанным аппендицитом.
И часто ругательной рецензией не меньше, чем похвальным отзывом.
Иногда это делается с расчетом.
{68} И тогда это — Том Сойер, хвастающий тем, что его почтили, заставив красить забор.
И право участия в этом почтенном занятии будет им дорого продаваться ораве завистливо глядящих ротозеев-сверстников.
Иногда — от ужасной внутренней необходимости посредством бахвальства отогнать от себя призрак собственной неполноценности, у большинства из нас только ожидающий случая вцепиться нам в душу строем мелких зубов из целлулоида, какие бывают на меховых горжетках.
Вспоминаю одного из наших самых хлестких зубоскалов — Никиту Богословского, который, кроме того, пишет музыку. Coup de grâce[39], или, вернее, le mot, qui tue[40] — нанес ему я.
«Все люди похожи на зверей. Кто на медведя. Кто на лисицу.
Кто на паука.
А Никита на… горжетку».
Это было настолько похоже, что он даже не смог разозлиться, хотя это, конечно, и очень обидно.
Утесова я в свое время «срезал» перевертышем.
Он как-то сказал:
«Эйзенштейн — половой мистик».
«Лучше быть половым мистиком, чем мистичковым… половым», — гласил (и к собственному моему удивлению) мгновенный ответ.
Хвастанув образцами собственного остроумия, перейду к тому, чтобы побахвалиться «неосуществленными предложениями».
Это — в отличие от «неосуществленных постановок», то есть таких, которые были не только задуманы и предложены, но уже и «тронуты» разработкой и какой-то работой по ним.
Последующий же список касается только таких тем и предложений, которые в лучшем случае на день, на два в порядке предложений или переговоров занимали наше внимание с тем, чтобы потом совершенно выпадать из поля зрения.
Некоторые будут и без этого неизменно и неизбежно всплывать в самых разнообразных контекстах, но забавно постараться свести наиболее пестрые и неожиданные из них в одном месте.
Большинство из них по вполне понятной причине возникают с момента, когда мы в 1929 году выезжаем в Берлин, имея целью поездку в САСШ.
{69} Самым роскошным предложением было, пожалуй, самое первое из них.
У нас появился необычайно высокий худощавый спортивного склада мужчина.
Шеф пропаганды швейцарской фирмы «Нэстле» (молочные продукты), и [его] основная специальность — сгущенное молоко.
Он накануне видел «Старое и новое» и говорит, что никогда прежде на экране не видел такого проникновенного ощущения стихии молока.
Предложение: реклам-фильм для его фирмы.
Материал: кругосветное путешествие.
Сюжет: какой угодно или вовсе никакой.
Обязательное условие: показать, как дети Африки, Индии, Японии, Австралии, Гренландии и т. д. и т. д. — пьют сгущенное молоко фирмы «Нэстле».
Разошлись, кажется, на размере… суточных.
(Но «расхождение», конечно, гораздо глубже: не для того воспитала меня советская власть… кинематографистом!)
На Rue d’Astor в Париже помещается наше торгпредство.
В торгпредстве нет — в 1929 году — киноотдела.
Зато есть отдел продажи и распространения уральских камней и алмазов.
Этим отделом ведал угрюмый и смертельно скучный товарищ.
Ему в порядке совместительства вручена и продажа наших фильмов.
В коммерческой судьбе наших фильмов он барахтается совершенно беспомощно… хотя в своем деле, кажется, ему принадлежит заслуга изобличения одной из самых злостных и неожиданных форм вредительства.
Так или иначе — дело в следующем.
Суеверие давно упразднено в нашей стране и в лучах материалистического мировоззрения давно растворилось и отошло в далекое и недоброе прошлое.
Однако это не имеет ничего общего с интересами экспортной коммерции.
И если есть народы и нации, которые полагают, что семь уменьшающихся по размеру слоников из камня даже такой материалистически настроенной страны, как наша, способны им приносить цветочки буржуазного счастья, то почему же отказывать им в этом и не экспортировать подобные {70} «porte-bonheur’ы»[41] в обмен на валюту (особенно в тридцатых годах, когда валюты у нас так мало, что при заграничном паспорте, независимо от срока поездки, выдается всего-навсего… 25 долларов. Как я объезжал в течение двадцати восьми месяцев Земной шар за 25 долларов — это рассказ для другого раздела!).
Семерки слоников старательно точатся из малахита, нефрита, халцедона, горного хрусталя или раухтопаза.
Бережно пакуются.
В утлых трюмах флотилий Совторгфлота развозятся по странам мира.
А вредные слоники… не продаются.
В чем дело?
Не продаются, да и только.
Сперва их не берут покупатели в магазинах.
Потом перестают брать сами магазины.
И, наконец, от них отказываются и магазинные поставщики.
Может быть, их не берут, потому что они советские?
Но на них, кажется, даже нет национальной марки!
Может быть, они не приносят счастья?
Но их не берут, даже не проверив наличия или отсутствия у них чудодейственной силы.
Просто не берут.
В то же время рядом, с тех же полок сотнями комплектов расходятся семерки слонов голландских и немецких, мейсенских и — копенгагенских…
Что за чертовщина?
Горы точеных слоников растут и множатся.
Запружают собою пакгаузы и склады.
Хоть мостовые ими мости!
И вдруг выясняется, в чем дело.
Дело в хоботах.
Как оказывается, счастье приносят только слоники, снабженные хоботом, лихо… задранным кверху!
Грустно опущенный книзу — ни радости, ни счастья не приносит…
А советский экспортный слоник упорно вывозится с хоботом книзу.
Образец злополучных слоников перестраивается, и «перекованный» слоник, торжествующе задрав победоносный хобот, {71} успешно побивает на мировых рынках слонов голландских и копенгагенских, мейсенских и дрезденских!
Калибр боевых слонов эпохи нашествия Тамерлана уменьшился, но агрессивность между слонами прежняя…
В один прекрасный день товарищ, торгующий алмазами, мне передает официальное предложение.
Я считаюсь специалистом по историческим полотнам.
Исполняется сто лет независимости… Бельгии.
И бельгийское правительство желало бы видеть юбилейный фильм своего столетия выполненным моими руками.
После этого меня, конечно, уже гораздо меньше удивляет — чем могло бы без этого! — приглашение приехать в… Венесуэлу и снять тоже юбилейный фильм славной памяти борца за независимость Южной Америки — Боливара.
Интересно, что в Лондоне, через Грирсона, мне делается предложение от Колониального управления империи.
Предлагается снять… Африку.
Единственное требование — показать, как колониальное владычество Англии способствует культурному росту и благосостоянию негров!!!
У Грирсона хватает такта не передать мне это предложение!
Я узнаю о нем позже и сожалею о том, что у Грирсона оказалось больше такта, чем… чувства юмора: помилуй бог, что бы я отколол в ответ на эдакое предложение!
Когда я сижу значительно позже на границе в Нуэво-Ларедо, как между двух стульев, между Мексикой и Соединенными Штатами Америки, куда меня не впускают обратно в течение целых шести недель, я получаю предложение снимать историю… штата Техас с заверением, что местные владельцы ранчо мне предоставят сколько угодно лошадей.
(Об этом, «к слову», я подробно рассказываю в другом месте — в порядке «отступления» в моей «парижской эпопее».)
Первой темой, предложенной мне в Голливуде, было «Мученичество отцов-миссионеров ордена св. Иисуса от руки краснокожих в Северной Америке», последними темами — «Еврей Зюсс» и «Возвращение» Ремарка.
Дальше разговоров дело не пошло.
Так же как и с «Гранд-отелем», и «Жизнью Золя», на которые меня уговаривал «Парамаунт» еще в Париже при подписании контракта.
В Париже же ко мне тайно, через третьи руки (одного из ювелиров {72} на Рю де ла Пе, из тех ювелиров, которые, наподобие библейского купца, продают все и приобретают одну-единственную жемчужину[xlix] и выставляют у себя в окне среди темного бархата занавесок один несравненный бриллиант) поступает предложение от… Шаляпина поставить с ним «Дон Кихота».
«Федор Иванович очень волнуется перед работой в кино и хотел бы попробовать все-таки с русским…».
Фильм ставит в дальнейшем Пабст, и Федор Иванович здесь на экране столь же неубедителен, сколь великолепен он в этой роли на театре.
В Юкатан, в Мериду, в разгар съемок «Que viva Mexico!» приходит предложение моего бывшего супервайзера у «Парамаунта» снимать с ним «Ким» Киплинга в… Индии!
Бедный мистер Бахман, вероятно, никогда не слышал о такой вещи, именуемой визой, или о джентльмене, занимающем пост вице-короля Индии.
Этот курьез вызывает в памяти другой курьез.
В Берлине жил наш приятель Яша Шатцов.
В качестве герра Шатцова он представительствует в фирме съемочных аппаратов «Дебри» на всю Европу.
С Шатцовым осенью 1929 года мы совершенно серьезно дебатируем вопрос о фильме для… собак.
Его это интересует — а инициатива в этом деле его — с коммерческой стороны, принимая во внимание пламенную любовь и берлинок, и берлинцев к собакам и колоссальный собачий процент населения города Берлина.
Если одно из самых живописных кладбищ Парижа — собачье кладбище в Отей, то почему бы Берлину не иметь своего прелестно обставленного собачьего кинематографа?!!
Меня мысль, конечно, занимает под углом зрения чисто рефлекторной проверки целого ряда кинематографических элементов. (Степень суггестивности, вопросы темпа, ритма, «образа», отделенного от нашей привычной системы мышления и представления и т. д.)
Проект, конечно, остается проектом и идет не дальше двух разговоров: [одного] в чудной домашней бильярдной Шатцова и одного в каком-то из ночных кабаков Вестена.
Куда бы, казалось, дальше?
Однако это оказывается не самым неожиданным и смешным, что может быть предложено человеку, работающему на кино.
{73} Венец всех предложений подносится мне весной 1930 года поэтом Жаном К. в Париже.
Предложение поставить и снять. И где? — В самом Марселе! — Что? — «Такой» фильм, какой в Марселе только и снимать!
Ça, c’est le соmble![42]
Интересно, что из всех предложений это было, кажется, самым «реальным», обеспеченным деньгами! Финансировать с большим энтузиазмом хотел это дело виконт де Н.[l]
Ну, здесь, конечно, дело не доходит даже до переговоров.
Даже до знакомства с виконтом не дошло.
Впрочем, виконт еще одновременно безумно занят другим делом.
Виконт де Н. прямой потомок знаменитого маркиза де С. Не то по дамской линии, не то по мужской.
И отель виконта буквально затоплен изданиями творений светлой памяти маркиза, его предка.
Впрочем, память о маркизе отнюдь не светлая, а совсем даже вовсе наоборот. Она очень мрачная.
И виконт поставил себе целью… реабилитировать память своего знаменитого и славного предка.
Поэтому гостиные и будуары особняка виконта утопают в изданиях «Жюстины» и «Жюльетты», «Философии в будуаре» и бесчисленных «Ночей Содома».
Среди них бесшумно, как полагается в хороших домах, снуют горничные в белых фартучках и крахмальных наколках и на ходу краем глаза, вероятно, ловят строчку-другую поразительного текста, набранного гигантским прозрачным шрифтом современных роскошных изданий.
Содержание этих строк потом взволнованно комментируется на кухне. И я так и вижу гладко выбритого лакея с чуть-чуть синеватыми щеками, пронзительно роняющего в ответ на выкрики кухарок и судомоек: «Ну это что!.. Вот у нас в деревне…»
В них тычутся, кажется, и дети, несомненно поражаясь причудливым мизансценам на гравюрках карманных нидерландских изданий XVIII века.
Дети еще слишком юны, чтобы по-своему, в тон взрослому лакею, презрительно отзываться о картинках: «Ну, это что!.. Вот у нас в гимназии!..»
{74} Кстати, с одним таким томиком у меня был немалый курьез во время поездки по зарубежным странам.
К моменту отъезда, в 1929 году, на вокзал мне принесла прелестная бывшая опереточная актриса Ртищева крошечную коробочку — «в дорогу».
В коробочке были не «ситец и парча»[li], а ветка винограда и золотистая перезрелая груша из породы дюшес.
Под веткой и округлостью сочного плода скрывался крошечный томик.
«Подумайте только! Ведь эту книжечку мог когда-то в руках держать Пушкин!» — было написано рукою Ртищевой на форзаце[lii].
А на шмуцтитуле значилось на французском диалекте «Новая Жюстина, или Преследуемая добродетель».
Это был разрозненный томик из восьми-, кажется, томного полного издания «Жюстины», в течение многих лет ходившего «под прилавками» (а не по прилавкам) московских букинистов по средней стоимости в две тысячи рублей за комплект.
Были в нем и гравюрки, на три четверти залитые кофе.
Самая смешная из них была та, где герой подгадывает собственную разрядку к… взрыву подожженного им корабля, что создает неповторимый эффект синхронизации к его безобидному развлечению.
Ну а самая рискованная была такою, что никакому описанию, конечно, не поддается.
Интересно, что этот малопотребный требничек (bréviaire) объездил со мною где-то на дне сменяющихся чемоданов чуть ли не весь маршрут странствий по Америкам и Европам, но был вторично обнаружен мною только в… Столбцах, в тот самый момент, когда я его увидел в руках нашего таможенного чиновника.
Можете себе представить, как я похолодел.
Но свершилось чудо: странички книги услужливо слиплись как раз по обе стороны каждой из гравюрок и, заключенные в эти как бы конвертики, как автор их когда-то между стенами Бастилии[liii], они абсолютно благополучно проскочили сквозь поле зрения носителя недреманного ока, чьи пальцы старательно листали книжечку.
В описаниях парижских моих похождений есть отступление на тему о чуде «маленькой святой» — св. Терезы де Лизьё.
Там описано, как «маленькая святая» нас услужливо выручила бензином.
{75} Можно ли назвать происшествие на пограничном пункте в Столбцах «чудом святой Жюстины»?!
Светлой памяти маркиз — атеист и богохульник — с восторгом бы приветствовал такое название!
Жан-Жак Бруссон как личность и как литератор существо, конечно, весьма ничтожное.
Хотя его «Анатоль Франс в халате», написанный под «Бальзака в туфлях» Леона Гозлана — одна из самых очаровательных книг, способных попасть в руки читателя.
Я не согласен с сущностью оценки ее, данной этому творению Бруссона кем-то из французов, хотя сама оценка блистательна по образности и стилю. Цитирую по памяти:
«… Одному человеку было поручено выносить ночные горшки другого. Вместо этого он бережно копил их содержимое. А затем, разбавив собственной мочой, опубликовал. Вот что такое “Анатоль Франс в халате” господина Бруссона…» «Путешествие в Буэнос-Айрес» гораздо слабее, но в графе зигзагов моей биографии оно играет такую существенную роль, что я на нем задерживаюсь в другом месте очень обстоятельно.
Менее, конечно, известен сборник маленьких новелл Бруссона. И, кстати сказать, они ничем особенного внимания и не заслуживают.
Забавна среди них только одна, и представляет собою, вероятно, литературно достаточно посредственный пересказ «бутады», когда-либо отпущенной самим мэтром.
(Мэтр в первой книге Бруссона был мне особенно привлекателен, вероятно, еще и потому, что уж очень он характером походил на моего собственного мэтра — Всеволода Эмильевича!)
Герой этой новеллы — маркиз. Освобожденный из Бастилии, уже преклонного возраста, он попадает в один из тех «парадизов», которые содержит мадам NN, а посещают Пейксотты, прославленные страусовыми перьями и маленьким étui de nacre[43], и Мирабо, известный своим «Journal d’un Débauche»[44].
«Учитель! Научи нас!» — став на коленки, хором произносят «магдалины», воспитанные на творениях своего великого и нежданного клиента.
Мэтр пытается это сделать.
Но у мэтра ничего не получается.
{76} Мэтра с позором выгоняют на улицу… Сколько мудрой горечи в этом апокрифе, несомненно к Бруссону перешедшем от собственного мэтра…
… Но ничто не мешает виконту и виконтессе заниматься реабилитацией предка (de leur illustre ancêtre[45]).
Поэта, виконтессу и виконта я оставлю скрытыми за полумаской инициалов.
Знаменитый предок в этом не нуждается.
Раскинутые по отелю его увражи говорят за себя.
Славный предок, конечно, — маркиз де Сад.
Правда, очень может статься, что он только духовный предок виконта, а сам виконт в действительной жизни носит другой титул.
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 299; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!