
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Часть вторая 1 страница
|
|
|
|
X
IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I
Часть первая
Марио Варгас Льоса
Марио Варгас Льоса
Разговор в «Соборе»
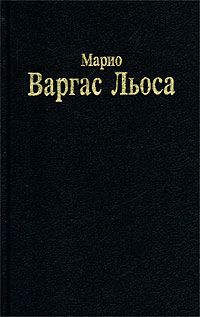
OCR BiblioNet
«Разговор в «Соборе»»: Академический Проект; Москва; 2000
ISBN 5‑8291‑0045‑2
Оригинал: Mario Llosa, “Conversaciуn en la catedral”
Перевод: Александр Богдановский
Аннотация
Роман «Разговор в „Соборе“ — один из наиболее значимых в творчестве известного перуанского писателя Марио Варгаса Льосы (род. в 1936 г.). Оригинальное и сложное по стилю произведение является ярким образцом прозы XX века.
Разговор в «Соборе»
«Чтобы стать истинным романистом, надо исследовать жизнь всего общества, ибо роман — это частная история народов».
Оноре де Бальзак «Физиология брака»
Из дверей редакции Сантьяго глядит на проспект Такны, и во взгляде его нет любви: тонущие в тумане серенького дня машины, разнокалиберные блеклые фасады, каркасы неоновых реклам. Когда же это так испаскудилась его страна, его Перу? На проспекте Вильсона меж замерших перед светофором машин с криками мечутся мальчишки‑газетчики, а он медленно шагает к Кольмене. Понурившись, сунув руки в карманы, идет он словно под конвоем прохожих — все в одну сторону, к площади Сан‑Мартин. Он сам, Савалита, — вроде Перу, с ним тоже в какой‑то момент случилась непоправимая пакость. В какой же это момент? — думает он. У дверей отеля «Крийон» к ногам его жмется, лижет ему башмаки бездомная собака. Пошла вон, может, и ты бешеная? И с Перу, думает он, и с Карлитосом, и со всеми. Выхода нет, думает он. На автобусной остановке — длинный хвост; он пересекает площадь и видит за столиком бара «Села» — здорово, старина! — Норвина — присаживайся, старина, — плотно облапившего высокий стакан, подставившего ногу чистильщику ботинок, — выпей со мной. Норвин вроде бы еще не пьян, и Сантьяго садится, показывает чистильщику, чтоб занялся и его башмаками. Сейчас, сеньор, сделаем в лучшем виде, сеньор, в лучшем виде, как зеркало будут.
|
|
|
— Сто лет не виделись, — говорит Норвин. — Ну что, передовицы‑то легче писать? Доволен? Не жалеешь, что бросил хронику?
— Возни меньше, — пожимает он плечами — а не в тот ли день и час случилось это, когда его вызвал главный редактор — и заказывает пива похолодней — и предложил ему место Оргамбиде, ведь он учился в университете и справится с редакционными статьями. А, Савалита? Не тогда ли, Савалита? Тогда, тогда, думает он. — Прихожу пораньше, получаю тему, зажимаю нос, и часа через два‑три — все, гуляй!
— Ни за что на свете не согласился бы передовые мастерить, — говорит Норвин. — Информации нет, а в нашем деле — информация — это все, понимаешь, Савалита? Я‑то, наверно, так и сдохну на уголовной хронике. Да, кстати: правда, что Карлитос умер?
— Да нет, он пока еще в клинике, скоро выпишут, — говорит Сантьяго. — Клянется, что на этот раз завяжет намертво.
— А правда, что он уже чертей ловил? — говорит Норвин. Норвин смеется, а Сантьяго закрывает глаза: корпуса квартала Чоррильос — бетонные кубы с зарешеченными окнами, растрескавшиеся норы, в которых копошится замшелое отребье, заживо гниющее старичье в шлепанцах на узловатых венозных ногах. А между корпусами мечется человечек, и от истошных его воплей содрогается маслянистая рассветная полумгла, и еще яростней гонятся за ним скорпионы, тарантулы, муравьи. Что ж, думает он, тоже утешение, белая горячка лучше медленной смерти. Ничего, Карлитос, каждый отбивается от Перу чем и как может.
— В один прекрасный день и я допьюсь до зеленых чертей. — Норвин с любопытством рассматривает свой стакан, усмехается. — Ведь непьющих репортеров не бывает, Савалита. Надо же в чем‑то черпать вдохновение.
|
|
|
Чистильщик закончил с ним и теперь, посвистывая, наводит глянец на башмаки Сантьяго.
— Ну, как дела в «Ультима Ора», что слышно у этих бандитов? Обижаются на тебя, Савалита, зазнался, говорят, никогда теперь не зайдешь, не то что раньше. У тебя же, Савалита, времени теперь вагон. Чем же ты занят? Или еще где‑нибудь подрабатываешь?
— Книжки читаю, сплю после обеда, — говорит Сантьяго. — Может, все‑таки восстановлюсь на юридическом, получу диплом.
— Ну, брат! — Норвин явно огорчен. — Хронику бросил, теперь еще и диплом хочешь получить? Передовицы — это уж все, край. С дипломом можешь ставить крест на журналистике. Буржуем становишься, как я вижу.
— Мне уже тридцать, — говорит Сантьяго. — Поздно буржуем становиться.
— Всего тридцать? — задумывается Норвин. — Мне тридцать шесть, а по виду я тебе в отцы гожусь. Ничто так не измочаливает человека, как уголовная хроника.
Над столиками — мутноглазые мужские лица, протянутые к пепельницам и стаканам руки. Ну и сброд, прав был Карлитос. Что со мной сегодня? — думает он. Чистильщик взмахами щеток отгоняет двух собак: вывалив языки, они бродят между столами.
— Долго еще «Кроника» будет с бешенством бороться? — говорит Норвин. — Осточертело. Сегодня опять — целая полоса.
— Моя работа, — говорит Сантьяго. — Да ну, лучше уж про бешенство, чем про Кубу с Вьетнамом. Ладно. Очереди нет, пойду на автобус.
— Пошли пообедаем, я угощаю, — говорит Норвин. — Забудь ты жену хоть ненадолго, Савалита. Тряхнем стариной, вспомним золотые времена.
Огненное жаркое, ледяное пиво, «Уголок Кахамаркино» на Бахо‑эль‑Пуэнте, ленивая вода Римака, текущего мимо бледно‑зеленых, будто слизью покрытых скал, кафе «Гаити», вечеринка у Мильтона, коктейль и душ у Норвина и полуночный апофеоз — поход в бордель, где, спасибо Бесеррите, им отпустят со скидкой, а потом — тяжелый сон, а наутро — головная боль, чувство вины, гудящее похмельной тоской тело. Не тогда ли это было, не в золотые ли времена? Очень может быть.
— Ана приготовила сегодня на обед чупе [1]с креветками, этим я пожертвовать не могу, — говорит Сантьяго. — В другой раз, старина.
|
|
|
— Ага, боишься, боишься жену, — говорит Норвин. — У‑у, Савалита, до чего ж ты испаскудился.
Вот это верно, да только дело тут не в жене. Норвин расплачивается с официантом и чистильщиком, жмет Сантьяго руку. Он возвращается на остановку, лезет в автобус «шевроле», где гремит радио. «Инка‑Кола» утолит жажду, а потом вальс, реки и ручьи, сработавшийся голос Хесуса Васкеса. В центре — еще пробки, но на проспектах Республики и Арекипа машин мало, автобус может набрать скорость, и снова вальс, столь любимый жительницами нашей столицы… Почему у нас что ни вальс, то такая мерзость? Он думает: что со мной сегодня? Склонил голову, подбородок уперт в грудь, глаза полузакрыты, словно он созерцает свой живот. Черт бы тебя взял, Савалита, стоит только сесть, как под пиджаком — словно арбуз. Когда он в первый раз выпил пива? Пятнадцать лет назад? Двадцать? Уже месяц не виделся с мамой, с Тете. Кто бы мог подумать, что Попейе станет преуспевающим архитектором, а ты, Савалита, будешь сочинять передовицы. Он думает: скоро придется на тачке брюхо возить. Надо ходить в турецкие бани, надо играть в теннис, согнать вес, растрясти жирок, будешь стройным, как в пятнадцать. Встряхнуться, победить лень, воспарить. Он думает: спорт — единственный выход. Миновали парк Мирафлорес, Кебраду, Малекон, вот здесь, на углу Бенавидеса, пожалуйста. Он вылезает и, сунув руки в карманы, понуро бредет к Порте, да что со мной сегодня такое? Небо по‑прежнему затянуто тучами, день все так же пасмурен и сер, комариной лапкой, паутинной лаской пробегает по коже мельчайшая изморось. Нет, что‑то еще более беглое, мимолетное, неприятное. В этой стране даже дождь сволочной какой‑то, нет чтоб хлынуло как из ведра. Что сегодня в «Колине», в «Монтекарло», в «Марсано»? Он пообедает, потом прочтет через пень‑колоду главу «Контрапункта»[2], мозги его отуманятся, и он с книгой Хаксли в руках погрузится в вязкий послеобеденный сон, — это если крутят детектив вроде «Рифифи» или вестерн вроде «Рио‑Гранде». Но Ана наверняка уже высмотрела в газетке какую‑нибудь мелодраму. Да что со мной сегодня целый день? Он думает: если бы цензура запретила мексиканские картины, мы бы с Аной реже ссорились. Ну, выпью вермута, а потом? Потом пройдемся по набережной Малекона, покурим под бетонными зонтиками парка Некочеа, слыша, как ревет в темноте море, вернемся, взявшись за руки, домой, что‑то часто мы стали спорить, милая, часто ссоримся, милая, а потом, одолевая зевоту, — еще страничку Хаксли. Обе комнаты — в чаду и вони горелого масла, хочешь кушать, милый? А утром — трель будильника, холодный душ, автобус, потом в толпе конторских служащих пешком до Кольмены, голос главного: «Что предпочитаешь, Савалита: забастовку банковских служащих, кризис рыбодобычи или Израиль?» Может быть, стоит поднапрячься немножко и все‑таки получить диплом. Дать задний ход, думает он. Он видит обшарпанные оранжевые стены, красные крыши, слуховые оконца, забранные черными прутьями. Дверь в квартиру открыта, но почему‑то навстречу не вылетает простодушная, игривая и забавная собачка Батуке. Что ж ты, милая, пошла к китайцу в лавку, а двери настежь? Нет, он ошибся, Ана дома, встрепанная, глаза красные, заплаканные. Что стряслось? — Батуке увели.
|
|
|
— Вырвали поводок прямо из рук, — рыдает Ана. — Какие‑то гадкие негры. Вырвали и бросили в фургон. Его украли, украли!
Он целует ее в висок — успокойся, успокойся, — гладит по щеке — как это случилось? да не плачь, глупенькая, — взяв за плечо, ведет в комнату.
— Я звонила в «Кронику», но тебя уже не было. — Губы у Аны дрожат, лицо искажено. — Какие‑то негры с каторжными мордами. Он был на поводке, как полагается. Поводок у меня вырвали, а Батуке схватили и бросили в фургон.
— Подожди, вот пообедаю и схожу за ним, — снова целует ее Сантьяго. — Я знаю, куда везут отловленных собак. Ничего с Батуке не случится, не плачь.
— Он так сучил лапами, вилял хвостом, — Ана краешком передника вытирает глаза, вздыхает, — словно все понимал, бедненький. Бедная моя собачка.
— Говоришь, прямо из рук вырвали? Вот сволочи. Ладно, я им устрою.
Он снимает со стула пиджак, делает шаг к двери, но Ана удерживает его: сначала поешь, перекуси на скорую руку. Голос ее нежен, на щеках ямочки, глаза грустные, бледная.
— Наверно, остыло, — улыбается она дрожащими губами. — Я тут обо всем забыла, прости, милый. Бедненький Батукито.
Обед проходит в молчании, стол придвинут к окну, а окно выходит в патио: земля кирпичного цвета, как теннисные корты в Террасасе, извивается посыпанная гравием дорожка, вокруг кусты герани. Чупе и вправду холодное, по краю тарелки — каемка застывшего жира, креветки точно жестяные. Она пошла к китайцу на Сан‑Мартин уксусу купить, и вдруг рядом затормозил грузовик, оттуда выскочили двое негров, рожи совершенно бандитские, ну просто беглые каторжники, один оттолкнул ее в сторону, второй вырвал из руки поводок, а когда она пришла в себя, их уже и след простыл. Бедный, бедный песик. Сантьяго встает: эти негодяи за все ответят. Ана снова плачет: даже он понял, что его хотят убить.
— Ничего с ним не будет. — Он целует Ану в щеку, ощутив на мгновение воспаленную от слез, солоноватую кожу. — Скоро приведу, вот увидишь.
Рысцой к аптеке на углу Порты и Сан‑Мартин, просит разрешения позвонить и набирает номер «Кроники». Трубку снял Солорсано, судебный репортер: ты совсем сбрендил, Савалита, откуда я знаю, где живодерня?!
— У вас собачку увели? — Аптекарь с готовностью вытягивает шею. — Это не очень далеко, на Пуэнте‑дель‑Эхерсито. У моего крестника так погибла чау‑чау, такая была славная псина.
Рысцой к Ларко, в автобус, прикидывая, сколько стоит такси от проспекта Колумба до Пуэнте‑дель‑Эхерсито. В бумажнике сто восемьдесят солей. К воскресенью опять будем на мели, зря все‑таки Ана ушла из клиники, кончать надо с этими кино каждый вечер, бедный Батуке, больше ни единого слова про бешенство не напишу. Вылезает, на площади Болоньези ловит такси, но шофер не знает, где живодерня. Мороженщик с площади Дос‑де‑Майо объясняет: все время прямо, на набережной увидите вывеску «Муниципальный отдел по отлову бродячих животных», это она и есть. Здоровенный пустырь за кирпичным забором мерзкого вида и цвета дерьма — цвета Лимы, думает Сантьяго, цвета Перу, — а на пустыре — несколько хибарок, которые в отдалении сливаются воедино, превращаясь в лабиринт циновок, кровель, цинка. Тихий, сдавленный скулеж. У ворот — будочка с табличкой «Администрация». Лысый человек в очках, без пиджака, дремлет за письменным столом, заваленным бумагами, и Сантьяго с ходу стучит по этому столу кулаком: у меня украли собаку, у жены прямо из рук поводок вырвали, — лысый вздрагивает от неожиданности, — это безобразие, эту подлость я терпеть не намерен!…
— Вы не кричите, — говорит лысый, протирая изумленные глаза, кривя рот, — и выбирайте выражения, не дома.
— Если с моей собакой что‑нибудь случилось, я этого дела так не оставлю. — Сантьяго снова лупит кулаком по столу, достает журналистскую карточку. — А сволочи, которые напали на мою жену, сильно поплатятся за свою наглость!
— Да успокойтесь вы. — Лысый, зевая, рассматривает карточку, досада у него на лице сменяется выражением кроткой тоски. — Вы говорите, часа два назад забрали вашу собачку? Ну, так она еще жива, только привезли. Зачем же принимать все так близко к сердцу, а еще журналист. — Голос у него вялый и сонный, как взгляд, горький, как складка у губ: тоже уделан жизнью. — У нас платят с головы, вот наши иногда и чрезмерно усердствуют, что с ними поделаешь, кушать всем надо. — Сквозь стены просачиваются звуки глухих ударов, визг и вой. Лысый, криво и принужденно улыбаясь, покорно встает на ноги, выходит из кабинета, что‑то бормоча. Они пересекают пустырь, останавливаются перед воняющим мочой бараком. Там два ряда клеток, битком набитых собаками: они трутся друг о друга, подскакивают на месте, обнюхивают проволоку, ворочаются и ворчат. Сантьяго останавливается перед каждой клеткой, вглядывается в мешанину морд, спин, напряженно отставленных или виляющих хвостов — нет, здесь моей нет, и здесь тоже. Лысый, с потерянным видом, тащится следом.
— Вот, можете сами убедиться, нам негде их держать, — вдруг взрывается он. — А ваша газета нам житья не дает. Муниципалитет выделяет крохи, крутись как знаешь.
— Дьявол, — говорит Сантьяго, — и здесь нет.
— Найдется, — вздыхает лысый. — Еще четыре барака.
Они снова на пустыре. Изрытая земля, жухлая трава, кал, зловонные лужи. Во втором бараке одна из клеток ходуном ходит, проволочная сетка дрожит: за ней барахтается, выныривает и вновь тонет что‑то похожее на клубок белой шерсти. Ну‑ка, ну‑ка. Краешек морды, кончик хвоста, красные слезящиеся глаза… Батукито. На нем еще ошейник, и поводок не отстегнули — да что же это за безобразие, какое право они имели! — но лысый успокаивает Сантьяго: не шумите, сейчас его вытащат. Он медленно удаляется и вскоре приводит приземистого самбо[3]в голубом комбинезоне: Панкрас, достань‑ка вот того, беленького. Он открывает дверцу клетки, отшвыривает других собак, хватает дрожащего Батуке за холку, передает его Сантьяго, но тот тут же отпускает его, шарахается назад, отряхиваясь.
— Это всегда так, — смеется самбо. — Обязательно обделаются: они этим подтверждают, до чего рады выйти на волю.
Сантьяго опускается на колени, чешет Батуке за ухом, а тот лижет ему руку, дрожит, шатается как пьяный и только на пустыре начинает играть, кидать лапами землю и носиться вокруг хозяина.
— Пойдемте‑ка, я вам покажу, в каких условиях мы работаем. — Лысый с кислой улыбкой берет Сантьяго под руку. — Напишите про это в газете, попросите, чтоб муниципалитет увеличил нам смету.
Вонючие полуразвалившиеся бараки, мусор, свинцово‑серое небо, пропитанный влагой воздух. В пяти шагах от них кто‑то с неразличимым лицом пытается запихнуть в рогожный мешок дворняжку, а та отчаянно бьется и лает — неожиданно для такой крохи зычно и свирепо. Помоги ему, Панкрас. Приземистый мулат подбегает, растягивает горловину мешка, а его товарищ запихивает в него собачонку. Мешок тотчас завязывают, опускают наземь, а Батуке вдруг начинает скулить, рваться с поводка — да что с тобой? — испуганно глядит, хрипловато лает. А у людей в руках уже появились палки, и под счет «раз‑два» они колотят по мешку, а мешок подпрыгивает, дергается из стороны в сторону, словно в сумасшедшей пляске, и отчаянный вой несется на него, «раз‑два» в такт ударам хрипят мужчины. Ошеломленный Сантьяго закрывает глаза.
— Перу — это же каменный век. — Кисло‑сладкая улыбка всплывает на лице лысого. — Посмотрите, можно в таких условиях работать?
Мешок замолк и застыл, и люди, ударив еще по разу, бросают палки, утирают взмокшие лбы.
— Раньше мы их убивали, как Господь заповедал, по‑человечески, — жалуется лысый, — а теперь денег нет. Вот напишите‑ка об этом, раз вы журналист.
— А знаете, сколько мы тут получаем? — размахивает руками Панкрас и поворачивается к товарищу. — Расскажи ему, он в газете служит, пусть продернет наши власти.
Тот повыше, помоложе своего напарника. Он выступает вперед, и Сантьяго видит его лицо. Да быть не может! Сантьяго выпускает поводок, Батуке с лаем набрасывается на него. Быть не может!
— Один соль с головы, — говорит он. — А ведь потом еще надо везти дохлятину на свалку, ее там сожгут. Один соль за все про все.
Не может быть, это не он, все цветные похожи один на другого. А почему бы и не он, думает Сантьяго. Самбо нагибается, взваливает мешок на плечо — он! он! — несет его на край пустыря, швыряет на груду других окровавленных мешков, возвращается, покачиваясь на длинных ногах, утирая лицо рукавом. Он! он! Панкрас толкает товарища локтем в бок: ступай, поешь, притомился.
— Это тут они плачутся, а как выедут на ловлю — куда там! — ворчит лысый. — Короли! Зачем сегодня утром схватили собаку этого сеньора, скоты? Она была на поводке и с хозяйкой.
Самбо всплескивает руками — это он! — они вообще утром не ездили, они тут были, кончали отловленных, верьте слову, дон! Он, думает Сантьяго. И голос, и лицо, и фигура, только старше кажется лет на тридцать. Та же плутовская рожа, приплюснутый нос, курчавые волосы. Только раньше не было под глазами лиловатых мешков, морщин на шее, зеленовато‑желтого налета на лошадиных зубищах. Зубы у него были белые‑белые, думает Сантьяго. Как изменился, как постарел. Тощий, грязный, старый, но медленная, с развальцем походка все та же, и ноги, тонкие и по‑паучьи длинные, — те же. Руки покрылись узловатой корой мозолей, в углах губ запеклась слюна. Они уже вернулись в контору, Батуке жмется к ногам Сантьяго. Не узнал меня, думает он. Не стану говорить, ничего не скажу. Да и как он мог тебя узнать, Савалита? Сколько тебе тогда было? Шестнадцать? Восемнадцать? А сейчас уже четвертый десяток пошел. Лысый, заложив копирку, убористо выводит на листе бумаги округлые буковки. Самбо, привалившись к притолоке, облизывает губы.
— Вот тут вот распишитесь, друг мой. Серьезно, помогите нам, пусть ваша «Кроника» напишет, чтобы нам увеличили смету. — Он взглядывает на самбо. — Чего ж ты не идешь обедать?
— Нельзя ли малость вперед? — Он шагает к столу и непринужденно объясняет: — Поиздержался.
— Пять солей, — зевает лысый. — Больше не могу.
Самбо, не взглянув, прячет бумажку в карман, и они выходят вместо с Сантьяго. Поток грузовиков, автобусов и машин льется по Пуэнте‑дель‑Эхерсито. Как он воспримет, если?.. Гроздья домишек на Фрай‑Мартин‑де‑Поррес — может, убежит? — тонут в тумане, вырисовываются смутно, как во сне. Сантьяго ловит его взгляд и пытается улыбнуться.
— Если бы вы прикончили мою собаку, я б, наверно, вас всех тут поубивал.
Нет, Савалита, он тебя не узнает. Слушает внимательно, но взгляд почтительно‑отстраненный, туманный взгляд. И постарел, и одичал. Тоже вытрепан на славу.
— Сегодня утром, говорите, подобрали этого мохнатенького? — Неожиданная искорка вспыхивает у него в глазах. — Значит, это работа Сеспедеса, ему все равно, кого хватать. Он и в сад может залезть, и поводок обрезать, на что хотите пойдет, лишь бы урвать свое.
Они стоят у лестницы, ведущей на проспект Альфонса Угарте; Батуке катается по земле, лает в свинцовое небо.
— Амбросио? — Сантьяго улыбается сначала неуверенно, потом все шире. — Ты — Амбросио?
Нет, он не убегает, ничего не произносит в ответ. Тупо и уныло смотрит на Сантьяго, и вдруг какое‑то безумное выражение мелькает в его глазах.
— Ты забыл меня? — улыбается Сантьяго неуверенно, потом все шире. — Я — Сантьяго, сын дона Фермина.
Руки его взлетают — ниньо[4]Сантьяго, это вы? — и замирают, словно Амбросио не знает — обнять или задушить — сын дона Фермина? Голос охрип от волнения или от неожиданности, глаза моргают как от слепящего света. Ну, конечно, старина, это я, не узнал? А вот Сантьяго его сразу узнал. Руки вновь приходят в движение — ах, чтоб меня! — рассекают воздух — боже ты мой милостивый, ну совсем взрослый стали! — хлопают Сантьяго по плечам и по спине, а глаза наконец смеются: до чего ж я рад, ниньо!
— Глазам своим не верю — совсем взрослый мужчина! — Он ощупывает Сантьяго, всматривается в него, улыбается ему. — И верю и не верю! Теперь‑то, конечно, признал, как не признать? Похожи очень на отца, ну, и на матушку, на сеньору Соилу, тоже. А как барышня Тете? — Руки мелькают — от волнения или от испуга? — А сеньор Чиспас? — и снова шарят по спине и плечам Сантьяго, и взгляд становится нежным, припоминающим, и он очень старается, чтобы голос звучал естественно. — Вот ведь как бывает! Вот где довелось встретиться! А сколько лет прошло, так их!
— От этих передряг в горле пересохло, — говорит Сантьяго. — Пойдем выпьем чего‑нибудь. Есть тут поблизости где посидеть?
— Есть, — говорит Амбросио, — есть забегаловка, мы там обедаем, «Собор» называется, но, боюсь, вам не понравится: больно убогая.
— Если пиво холодное, понравится, — говорит Сантьяго. — Пойдем, Амбросио.
Вот ведь как: уже пиво пьете, смеется Амбросио, показывая зеленовато‑желтые зубы, как время летит, чтоб его. Они поднимаются по лестнице. За складами, тянущимися вдоль первого квартала проспекта Альфонса Угарте — белые автомастерские «Форда», а от поворота налево громоздятся выцветшие, посеревшие от неумолимой грязи пакгаузы Центральной железнодорожной станции. Там, внутри, под цинковой крышей теснится за колченогими столиками горластая и прожорливая орава посетителей. Двое китайцев из‑за стойки зорко всматриваются в медные лица, в разбойничьи острые черты тех, кто жует и глотает; паренек в драном фартуке разносит тарелки дымящегося супа, бутылки, блюда с рисом. Разноцветная радиола надрывается о любви, поцелуе и ласке, а в глубине, за пеленой табачного дыма, пропитанного запахами еды и винными парами, за стеной шума и гама, за танцующими в воздухе роями мух видно окошечко, а в нем — камни, лачуги, полоска реки, свинцовое небо, и ширококостная женщина, оплывая потом, шурует котелками и кастрюлями у разбрасывающей искры плиты. Свободный столик — у самой радиолы, на изрезанной ножами столешнице можно различить пробитое стрелой сердце, можно прочесть женское имя — Сатурнина.
— Я уже пообедал, заказывай себе, — говорит Сантьяго.
— Два «кристаля» похолодней, — сложив руки рупором, кричит Амбросио. — Порцию рыбного супа, хлеб и менестру[5]с рисом.
Не надо было с ним идти, Савалита, не надо было заговаривать, ты ж не совсем еще спятил. Опять начнется этот кошмар, думает он. И виноват будешь ты, Савалита. Бедный отец, бедный старик.
— Тут шоферы собираются, работяги с окрестных заводиков. — Амбросио словно извиняется. — Приходят даже с проспекта Аргентины: кормят здесь сносно, а главное — дешево.
Паренек приносит пиво, Сантьяго наполняет стаканы — за ваше здоровье, ниньо, за твое, Амбросио! — и какой‑то сильный нераспознанный запах ослабляет волю, кружит голову, тащит наружу воспоминания.
— Что же это за работенку ты себе отыскал, Амбросио? Давно ты на живодерне?
— Месяц. И то, спасибо бешенству, мест‑то нет. Да уж, работенка аховая, на износ. Только когда на ловлю едешь, можно дух перевести.
Здесь пахнет потом, луком и едким перцем, мочой и плотно слежавшимися отбросами, и знакомая музыка, пробившись сквозь гул голосов, рычание моторов и вой автомобильных гудков, становится неузнаваемой, вязко забивает уши. Бродят между столами, облепляют стойку, толпятся у входа остроскулые, опаленные солнцем люди, и глаза у них не то сонные, не то посоловевшие. Сантьяго достает сигареты, Амбросио закуривает, а докурив, швыряет чинарик на пол, растирает его подошвой. Он шумно хлебает суп, жует рыбу, обсасывает кости до блеска, а сам слушает, или отвечает, или спрашивает, и отламывает кусочки хлеба, большими глотками пьет пиво и вытирает пот со лба: да, ниньо, время летит — не угонишься. Чего я тут сижу, думает Сантьяго. Надо уходить, думает Сантьяго и требует еще пива. Наливает пиво, обхватывает пальцами свой стакан и, говоря, вспоминая, грезя наяву, думая, не сводит глаз с шапки пены, где словно на распяленных в приступе рвоты пастей извергаются, вздуваются и опадают в желтой жидкости, уже согревшейся от тепла его ладоней, красные пузыри. Он пьет, отрыгивает, тянется за сигаретой, наклоняется погладить Батуке: все позади, собачка, наплевать и забыть. Он говорит, и говорит Амбросио, нижние веки его набрякли и посинели, ноздри раздуты, как будто он бегом бежал и запыхался, он сплевывает после каждого глотка, провожает тоскующим взглядом мух, он слушает, улыбаясь, хмурясь, смущаясь, а в глазах у него по временам мелькают то гнев, то страх, а то вдруг исчезает всякое выражение. Иногда он кашляет. Курчавые волосы уже кое‑где поседели; поверх комбинезона на нем пиджак, бывший когда‑то голубым, имевший когда‑то пуговицы, высокий воротник наглухо застегнутой рубашки удавкой впивается в шею. Сантьяго глядит на его огромные башмаки — грязные, корявые, стоптанные, уделанные временем. Голос его звучит с неуверенной запинкой, иногда совсем пресекается, становится предупредительно молящим, потом снова крепнет — сокрушенный, или тревожный, или почтительный, но это всегда — голос побежденного: какие там тридцать лет?! Амбросио постарел на все сорок, а может, и на сто. Он не только состарился, осунулся и опустился — его, должно быть, догладывает чахотка. Да, жизнь задолбала его в тысячу раз крепче, чем Карлитоса, чем тебя, Савалита. Пора идти, думает он и заказывает еще пива. Ты напился, Савалита, сейчас расплачешься. В нашей стране жизнь с человеком не цацкается, ниньо, с тех пор, как я от вас ушел, столько всякого повидал — ни в каком кино не покажут. Жизнь и с ним тоже круто обходится — и Сантьяго заказывает еще пива. Тошнит его, что ли, блевать тянет. Острая, обволакивающая вонь — запах жареного, запах подмышек и потных ног — колышется над косматыми и гладкими головами, над напомаженными коками, над стесанными затылками в брильянтинных зализах и перхоти, а музыка то громче, то тише, то громче, то тише, и вдруг, явственней довольных лиц, квадратных ртов, смуглых гладких щек, выплывает из памяти какая‑то гнусь. Еще пива! Ну, вот скажите, ниньо, разве не в психушке мы живем, ведь это ж не страна, а какая‑то адская головоломка? Ну, как могло получиться, что одристы и апристы[6], которые так друг друга ненавидели, будут теперь заодно? Что сказал бы дон Фермин, доведись ему дожить до такого? Они разговаривают, и время от времени Сантьяго слышит робкую почтительную просьбу набравшегося храбрости Амбросио: пора мне, ниньо. Он стал совсем маленьким и безобидным, отодвинулся невесть в какую даль, за широченный, заставленный бутылками стол, и глаза у него совсем пьяные и испуганные. Тявкает Батуке — раз и еще сто раз. Внутри, где‑то в самой глубине нутра, что‑то бешено крутится, словно бурлит, и время остановилось и пропиталось вонью. Они говорят? Замолкает и снова начинает греметь радиола. Плотная струя запахов разлилась на отдельные ручейки — дыма, пива, немытой кожи, объедков — и все они витают в духоте «Собора», пока их не поглощает, вбирая в себя, совсем уже нестерпимое зловоние — нет, папа, мы с тобой оба оказались неправы, — так пахнет поражение. Люди входят, едят, смеются, рычат, уходят, и только за стойкой — размытый сдвоенный силуэт китайцев. Говорят, молчат, пьют, курят, а когда над ощетинившимся бутылками столом нависает паренек в фартуке, оказывается, что соседние столики уже пусты, радиола замолкла, не гудит плита, и только тявкает Батуке. Паренек считает, загибая испачканные пальцы, и Сантьяго видит обеспокоенное лицо Амбросио, склоненное к нему: вам нехорошо, ниньо? Да нет, голова побаливает, сейчас пройдет. Слабый ты стал, думает он, много выпил, Хаксли, вот тебе твой Батуке, целый и невредимый, приятеля встретил, потому и задержался. Милая, думает он. Перестань, Савалита, хватит, думает он. Амбросио лезет в карман, Сантьяго останавливает его: очумел, что ли, я заплачу. Он пошатывается, Амбросио и паренек в фартуке поддерживают его; пустите, сам пойду, я ж в полном порядке. Он медленно, нога за ногу, продвигается к двери между пустыми столами, колченогими стульями «Собора», не отрывая глаз от вспухающего нарывами пола: все уже, все прошло, оклемался. Голова проясняется, рассеивается пелена перед глазами, ноги уже не такие ватные. Однако видения не исчезли. Путаясь под ногами, нетерпеливо лает Батуке.
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-06-28; Просмотров: 231; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!