
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Феномен
|
|
|
|
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ
РЕКЛАМА
Тема. 1
 | |||||
 | |||||
 |
Историки рекламы, прослеживая ее летопись, обращаются в основном к ее коммуникативной функции. Соответственно они раскрывают факты, которые относятся лишь к становлению средств информирования. Так, В.В. Ученова и Н.В. Старых усматривают истоки рекламы в коммуникативных приемах первобытного общества, что позволяет им говорить о культовой проторекламе: «Первобытный ритуал — это такая демонстративная акция, — пишут они, — которая призвана свидетельствовать о верности сообщества исконным традициям, заветам предков, его неуклонном служении высшим невидимым силам»1.
Однако по своему назначению реклама менее всего направлена на следование традиции. Напротив, ее смысл в утверждении новизны, необычности. В этом смысле ритуал вряд ли можно рассматривать как артефакт будущей рекламы. Традиция (от лат. traditio — передача) — средство кристаллизации и транслирования совокупного духовного опыта. Смысл традиции — передача культурной информации, живого духа культуры. Это исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, обряды, нормы поведения, взгляды, вкусы, которые обнаруживаются в социально-культурном наследии2.
Тем не менее даже архаические народы стремились сохранить свойственный им образ мысли. При этом каждая группа выражает свое единение внутри и дифференциацию вовне. Вместе с тем «новинки» охотно привозятся извне. Разумеется, было и так, что внутри данного круга иная экзотика ценится особенно высоко. Уже пророк Софония (VII в. до н.э.) неодобрительно отзывается о знатных людях, носящих одежду иноплеменников. Действительно, порою создается впечатление, что экзотическое происхождение причуды особенно способствует сплочению круга, где она принята; именно то, что она приходит извне, создает ту особую и значимую форму социализации, которая устанавливается посредством общего отношения к находящемуся вовне пункту. Иногда кажется, что социальные элементы, подобно осям глаз, лучше всего сходятся в точке, не слишком близко расположенной. Так, роль денег, следовательно, предмета наибольшего общего интереса, у примитивных народов часто играют завезенные извне предметы; в ряде областей (на Соломоновых островах, в Ибо на Нигере) развилась своего рода промышленность по изготовлению из раковин или других предметов денежных знаков, которые затем курсируют не в месте их изготовления, а в соседних областях, куда их экспортировали.
 1 Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы, или Метаморфозы рекламного образа: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — С. 21.
1 Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы, или Метаморфозы рекламного образа: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — С. 21.
2 См.: Гуревич ПС. Культурология. — М., 2003. — С. 217.
Реклама в целом — феномен последних веков. Но ближе всего к ней примыкает, очевидно, зрелищно-игровая и развлекательная культура, которая имеет давние истоки. Такая культура была весьма значимой в общественной жизни, однако далеко не всегда она была ориентирована на развлечение и тем более на восхищение и подражание. Как показывает А.В. Хачатурьян, многочисленные источники, повествующие о праздниках и зрелищах в древних цивилизациях — от Египта до Китая, описывают большое разнообразие их форм и разновидностей1. Зрелища носили в основном культовый характер. Однако многие праздники относились к сфере народной (низовой) культуры. Между тем древняя зрелищно-игровая культура оформилась в специализированный производственный комплекс не во всех цивилизациях.
Скажем, в античной Греции сложилась целая система развлечений. Здесь-то и появляется специализированный зрелищно-игровой комплекс, который завлекал зрителей в определенные формы досуга. В Риме эта тенденция оказалась еще более очевидной. Средневековье заимствовало лишь отдельные элементы того, что было в античности. Здесь снова преобладает культ, а сами развлечения отступают в толщу народной жизни. Особое распространение приобрело искусство бродячих трупп. В эпоху Возрождения, с одной стороны, воскресло античное развлечение, но, с другой стороны, сфера увеселений предельно разрослась. Для понимания специфики рекламы важны, разумеется, едва ли не все культурные факты.
Однако следует провести четкое разграничение между традиционным и современным обществами. Иначе мы придем к выводу, что реклама была всегда и это не позволит нам выявить сущность рекламы как социального феномена.
В течение долгих тысячелетий, когда древний цивилизационный уклад имел беспредельную власть, население земли можно было разделить на две категории — «примитивные» и «цивилизованные»: народы, жившие небольшими группами и племенами и добывавшие себе пропитание сбором плодов, охотой или рыбной ловлей, принадлежавшие к тем, мимо кого прошла сельскохозяйственная революция, и, напротив, «цивилизованный» мир был представлен той частью планеты, в которой большинство населения трудилось на земле, ибо где бы ни возникало сельское хозяйство, там пускала свои корни цивилизация2
Автор данного учебника считает, что в эпоху античности профессиональными носителями рекламного слова были городские глашатаи, существование которых подтверждается археологическими находками крито-микенской цивилизации (ок. XIV в. до н.э.) С точки зрения информативной и коммуникативной деятельности рекламы, указание на глашатаев, разумеется, имеет смысл. Однако напомним еще раз: реклама — это не информация в прямом значении этого слова.
Во все времена деньги являлись причиной возникновения страстей. Еще до того, как прибыль при капитализме превратилась в навязчивую идею, человечество пережило золотую лихорадку и страсть к накопительству в эпоху Возрождения, а его уверенность в магических свойствах денег разделялось большинством архаических и многих других народов.
 1 См.: Хачатурьян А.В. Шоу-бизнес как явление современной социальной жизни. — Ростов н/Д, 2002.
1 См.: Хачатурьян А.В. Шоу-бизнес как явление современной социальной жизни. — Ростов н/Д, 2002.
2 Трффоеп Э. Третья волна. – М., 2003 – С. 53.
«Да, деньги порождают впечатляющие картины богатства и бесконечных цифр, но сама бесконечность, которая затушевывает истинное значение цифр, делает еще более очевидной их мощное воздействие, которое превращает нас в кузнечиков или муравьев, вызывая жадность и корыстолюбие. И в этой связи хорошо известно, что количество банков превышает количество библиотек и музеев, что коррупция — это весьма распространенный порок; можно сколько угодно возмущаться бедностью одних и богатством других, но все равно в научном исследовании деньги недооцениваются»1
.В. Ученова и Н.В. Старых приводят весьма интересные факты, связанные с историей словесного воздействия на людей в целях привлечения внимания к ярмаркам и тавернам. В средневековой культуре глашатаи объединились в профессиональные сообщества. Первые из них возникли во Франции. Впоследствии указами монархов глашатаи были обязаны вступать в корпорации, которые были заинтересованы в том, чтобы люди повсеместно знали о воле властителей. На Руси тоже действовали царские вестники, о которых в Москве известно из документов XV в. Правительственные постановления провозглашались с Красного крыльца Кремля и Лобного места. Сходные с рекламой задачи выполняли «крики улиц».— зазывалы лавочек и таверен, ярмарочный фольклор, геральдика. Несомненно, пропагандистские функции несли в себе многочисленные религиозные процессии средневековой Европы: они проходили в особо торжественной обстановке. Тщательно подобранные религии несли в себе мощный идеологический заряд.

1 Московичи С. Машина, творящая богов. — М., 1998. — С. 363.
Эта абстрактность моды, основанная на ее сущности и придающая модному в качестве известной «отчужденности от реальности» известный эстетический оттенок, часто в совершенно неэстетических областях присутствует и в истории. В далекие времена каприз или особая потребность отдельных лиц создавали моду - средневековая обувь с длинным, узким носком возникла вследствие желания знатного господина ввести форму обуви, которая создает видимость аккуратной ноги, юбки обручах – по желанию задающей тон дамы срыть свою беременность и т.д.
 Примером который показывает механизмы
Примером который показывает механизмы 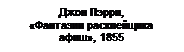 интеграции внутри группы, могут служить два живущих по соседству примитивных народа. Кафры обладают очень расчлененной социальной иерархией, и у них прослеживается увлечении новинками, хотя одежда и украшения регулируются и ограничиваются законами, достаточно быстро меняются. Напросив, у бушменов, у которых еще нет классов, диктат нового вообще отсутствует. Иначе говоря, нет интереса к изменению одежды и украшений.
интеграции внутри группы, могут служить два живущих по соседству примитивных народа. Кафры обладают очень расчлененной социальной иерархией, и у них прослеживается увлечении новинками, хотя одежда и украшения регулируются и ограничиваются законами, достаточно быстро меняются. Напросив, у бушменов, у которых еще нет классов, диктат нового вообще отсутствует. Иначе говоря, нет интереса к изменению одежды и украшений.
Именно эти отрицательные причины иногда препятствовали в высоких культурах образованию моды, и совершалось это вполне сознательно. Так, во Флоренции около 1390 г. в мужской одежде, по-видимому, вообще отсутствовала мода, так как каждый старался одеваться особым образом. Здесь, следовательно, отсутствует один момент — потребность в соединении, без которого моды быть не может. С другой стороны, у венецианских нобилей, как сообщается, не было моды потому, что все они по определенному закону Должны были одеваться в черное, чтобы их незначительное число не было замечено массами. Здесь, таким образом, моды не было потому, что отсутствовал ее другой конститутивный момент — высший слой намеренно избегал отличия от низших слоев. Кроме этого направленного вовне негативного момента — одинаковости в одежде, чем, очевидно, можно было символизировать внутреннюю демократию этой аристократической корпорации, внутри нее также не должна возникать мода, которая могла бы служить коррелятом для образования среди нобилей в какой-то степени различных слоев. Мода может перечить даже природе. Так, благодаря невестке Людовика XIV Елизавете Шарлотте Пфальцской (конец XVII — начало XVII в.), которая была совершенно мужеподобной личностью, при французском дворе возникла мода, чтобы женщины вели себя, как мужчины, и к ним обращались, как к мужчинам, а мужчины, напротив, вели бы себя, как женщины. Совершенно очевидно, что это может быть только модой, поскольку чуждо той неустранимой субстанции человеческих отношений, к которой жизнь в любой своей форме всегда неизбежно возвращается. Хотя и нельзя сказать, что мода является чем-то неестественным, — уже потому, что мода в качестве формы жизни естественна для человека как общественного существа, — но о просто неестественном, напротив, можно сказать, что оно может существовать по крайней мере в форме моды.
По мере того, как мы приближаемся к современной эпохе, общественное разделение труда усиливает свое влияние. Оно, по выражению С. Московичи (род. 1925), «орошает все каналы жизни в обществе»:
«Тенденция, которая ведет свое начало от сумерек цивилизации, интенсифицируется в Европе к концу средних веков и усиливается под натиском современной индустрии. Убеждения становятся разнообразными, а общественные обязанности получают различные интерпретации в зависимости от обстоятельств. Сомнение, некогда считавшееся преступлением, становится добродетелью и даже основой разума. Каждый обладает независимостью суждений и чувств, которая растворяет некогда общее сознание. Боги покидают этот мир, предоставляя людям полную свободу ставить перед собой цели и действовать»1.
К истории проторекламы можно отнести также и разработку символического языка. В Древней Греции существовал такой обычай. Друзья, расставаясь, брали какой-нибудь предмет (глиняную лампадку, статуэтку или навощенную дощечку с какой-либо надписью) и разламывали пополам. По прошествии многих лет эти друзья или их потомки при встрече узнавали друг друга, убедившись, что обе части соединяются и образуют единое целое — символ. Символ в древнегреческом языке означал «знак, примету». Знаковые системы являются языками культуры. Она «разговаривает» с людьми, пользуясь многочисленными символическими формами.
Спектр культуры формировался исторически. Рождались знаковые комплексы, которые расширяли пространство культуры. Реклама не может обойтись без знаков. Они несут информацию и смысл. Но этот смысл нередко оказывается многовариантным.
Известен давний рассказ о том, что таможенники задержали пассажира, который вез огромный слиток олова. Это было запрещено правилами, считалось контрабандой. Однако пассажир заявил, что это не олово, а произведение искусства из серебристо-белого металла, мягкого и пластичного. Тогда таможенники, обескураженные таким сообщением, записали в правила: «Произведением искусства является такой предмет, эстетические качества которого признают хотя бы два человека...»
Траур, особенно у женщин, также относится к тем явлениям в моде, которые имеют негативное значение. Изоляция, или отличие и соединение, или равенство, правда, имеют место и здесь. Символика черной одежды выделяет скорбящих из числа пестрой массы других людей, будто они вследствие своей связи с умершим принадлежат в известной мере царству ушедших из жизни. Поскольку это по своей идее для всех скорбящих одинаково, они в таком отъединении от мира полностью живых образуют идеальное сообщество. Однако поскольку это объединение по своей природе не социально — это только равенство, а не единство, — то здесь также отсутствует возможность моды.
Исследуя символическую природу культуры, Э. Кассирер (1874— 1945) подчеркнул, что она обретает свой специфический характер не из составляющего его материала, а из формы архитектоники, строения. «В наиболее общем значении архитектоника, — отмечает Т.О. Бердник, — понимается как структура, учитывающая единство и взаимосвязь всех частей и компонентов формы и обеспечивающая ее оптимальное функционирование и полное соответствие содержанию»2
По мнению Т.О. Бердник, предшественницей рекламы и ее разновидностью является мода. Она возникла в связи с радикальными изменениями, которые произошли в политической, экономической и культурной жизни европейских народов и государств конца XIII — начала XIV в. Мода как массовое явление не могла возникнуть в феодальном обществе. Человек, живущий при этом строе, не имел собственных вкусов и пристрастий. Его отношение к миру целиком формировалось цеховыми и корпоративными представлениями. Распад феодального строя вызвал к жизни понятие «индивидуальность». Теперь каждому человеку приходилось самостоятельно избирать жизненный путь, образ существования.
 1 Московичи С. Указ. соч. — С. 123—124.
1 Московичи С. Указ. соч. — С. 123—124.
2 Бердник Т.О. Архитектоника костюма. Социокультурная динамика: Автореф. дис.... канд. философ, наук — Ростов н/Д, 2004. — С. 13—14.
Известная фамилия, благородное происхождение — ничто не могло помочь барышне. Со времен Петра I дамы должны были являться на балы, в театр и на все торжественные собрания в платьях, открывавших грудь, плечи и спину. Такой вырез, называвшийся на французский лад декольте, был полной противоположностью традиционному русскому костюму и пользуется успехом не одно столетие.
На протяжении культурной истории человечества существовали различные виды вырезов в женской одежде, но лишь с XVII в. можно говорить о декольте как об осознанной модной детали. Во времена Тридцатилетней войны (1618—1648) чистая, сияющая, здоровая кожа стала своеобразным символом женской добродетели. И дамы из общества поспешили открыть плечи и грудь — это стало привилегией высшего сословия. Те, кто не мог похвалиться хорошим здоровьем, не отчаялись, а создали новую моду — мушки, которые назывались «Венериным цветочком» или «пластырем любви». По преданию, первой их стала носить герцогиня Ньюкастл, скрывая дефекты кожи.
Щеголихи XVIII столетия умели сочетать притворную стыдливость с более чем откровенным декольте. Носили кружевные или кисейные косыночки-фишю, скорее привлекавшие внимание к груди, нежели скрывавшие обнаженность, особенно если сквозь тонкую ткань просвечивала умело вырезанная и приклеенная мушка. А в начале XIX в., в эпоху Александра I, обнажались очень сильно, уподобляясь античным статуям. Худощавые прибегали к накладной груди из воска или кожи, которая снабжалась пружинкой, чтобы искусственная грудь вздымалась в такт с природной. Толстушки, затягиваясь и прикрывая полукорсеты тончайшим муслином, не уступали очертаниями фигуры парковым скульптурам. В начале XX в. декольте было немыслимо без ювелирных украшений. Однажды княгиня Мещерская появилась в своей ложе в Большом театре в Москве с роскошной бриллиантовой подвеской-солитером. В антракте в ложу вошла фрейлина вдовствующей императрицы и предложила княгине снять солитер, так как Мария Федоровна в тот вечер находилась в театре в менее ценных украшениях. Сняв солитер, княгиня по представлениям эпохи, оказалась раздетой и вынуждена была покинуть театр.
Страсть к обогащению любой ценой, вкус к предпринимательству, любовь к наживе являются самыми распространенными страстями. Эти темы господствуют в классических романах. Деньги, страсть, выставляемая напоказ и представляющая современность, направляют интригу. Носители иллюзий и надежд, они являются осью, вокруг которой вращаются доводы и аргументы, будь то у английского писателя А. Троллопа (1815—1882) или у французского писателя О. де Бальзака (1799—1850). Они служат движущей силой характеров персонажей, кузницей побудительных мотивов их действий. Они отличают одних, возводя их на вершину общества, где благодаря своему состоянию они делают себе имя, и бросают других в грязь и темноту. Бальзак в «Примиренном Мельпоте» так описывает всемогущество банка: «Это место, где выясняется, сколько стоят короли, где на руке взвешивается ценность народов, где судят системы... где идеи, верования обозначаются цифрами... где сам Бог берет взаймы и дает под гарантию свои доходы с душ, ибо папа имеет там текущий счет. Если я смогу где-либо сторговать душу, то там, не так ли?»
Как показывает С. Московичи, на протяжении всего произведения Бальзак восхваляет бухгалтерскую книгу как единственную книгу века1. Э. Золя (1840—1902) выявляет магическую силу двух кратких слогов в слове «деньги» в круговоротах спекуляций, которые проносятся по новым храмам — биржам. Грязная нажива напоминает гомеровскую эпопею или жестокую человеческую комедию, в которой читатель разделяет чувства героев и перипетии сюжета, вплоть до того, как новые герои-победители пересекают денежный порог, т.е. дверь, на которой находятся счастье и богатство. Если только поражение не погружает их в самый отвратительный разврат, заставляет прибегать к самым грубым формам насилия и бросает их на дно.
В 1913 г. дочь камергера двора Татьяна Сивере заказала себе в мастерской Ламановой платье для бала по случаю 300-летия дома Романовых. При входе в здание Дворянского собрания в Москве она увидела свою плачущую подругу, которую не пропустили в зал: платье бедняжки было недостаточно декольтированным.
Так начинают складываться предпосылки моды. Начиная с XIV в. исторический костюм развивается в соответствии с требованиями самобытности и непохожести. Исторический костюм стал быстро менять свою форму. Его вид соотносился теперь не столько с соображениями «удобства», «целесообразности» или надежности одежды. Теперь он несет на себе след символических различий между сословиями, между отдельными людьми. В результате вещи начинают приобретать дополнительные значения, которые не были присущи им прежде.
Каждая вещь имеет прежде всего утилитарное назначение. Она обслуживает человеческие потребности.
Каждый товар имеет несколько функций. Первая из них — непосредственно потребительская. Мы покупаем какое-то изделие, потому что оно удовлетворяет определенную надобность. Я приобретаю плащ, чтобы укрыться от дождя и ветра. Покупаю ботинки, чтобы не ступать босой ногой по снегу. Если у меня уже есть ботинки или плащ, зачем мне другой комплект, другая пара?
Незадолго до смерти Сталин, как известно, написал работу «Экономические проблемы социализма в СССР». Там есть такая мысль: коммунизм в нашей стране может быть введен, если удастся поднять заработную плату рабочих в два-три и более раз... Читатель усмехнется, вознаграждение за труд, конечно, неизмеримо выросло. Только где этот коммунизм?
Ссылаемся на Сталина вовсе не для того, чтобы показать убогость его экономического мышления. Вождь всех времен и народов размышлял просто: если у человека есть китель или сапоги, пусть богатство его увеличится в два-три и более раз. Это и есть то самое изобилие, которое условно можно назвать коммунизмом, — многократное удовлетворение изначальных, первичных потребностей. Чего же более?
Не только Сталин, но и многие цивилизованные мыслители и нафантазировать не могли, что товар имеет различные функции, а в середине прошлого века возникнут иные, в известной мере странные функции товара. Каждая вещь может иметь знаково-коммуникативный смысл. Специфический вид товара может нести информацию о человеке, который им обладает, — подтверждать его место в социальной структуре общества, свидетельствовать о его вкусовой ориентации или об уровне культуры. Вещь также может нести информацию об общественном статусе человека, степени его богатства или социальной влиятельности. Вспомним, у А.С. Грибоедова: «Не то на серебре, на золоте едал». С точки зрения процесса насыщения не имеет значения, каков сервиз. Но это социальная метка.
Вещи постепенно обретают новое социальное измерение. Изделие может не только обслуживать утилитарные потребности. Оно может выражать эстетический смысл. Одежда, скажем, способна превратиться в способ стилизации и усовершенствования внешности человека, обеспечить согласие с эстетическим идеалом культуры, с художественными вкусами времени.
 1 Московичи С. Указ. соч. — С. 365.
1 Московичи С. Указ. соч. — С. 365.
Представим себе, что в особняке живет законопослушный бизнесмен. На стене — старинные часы. Они выполняют прямую потребительскую функцию — ориентируют человека во времени. Но предприниматель не сидит дома. Он отправляется в офис. Появляется мода на жилетные или карманные часы. Потом они перекочевывают на руку. Однако прямое назначение часов не меняется — они указывают время. Представим все же, что у вас есть часы, вы же хотите купить другие, более красивые, в золотом корпусе. Товар — догадываетесь? — приобретает еще одну функцию — эстетическую.
Политики и экономисты прошлого века вряд ли могли предвидеть появление феномена, который на нашем идеологизированном лексиконе получил название «вещизм», «приобретательство», «потребительство». У вещи появилось еще одно назначение. Родился еще один тип потребления. Западные социологи назвали его «статусным», «престижным». Вы покупаете товар вовсе не для того, чтобы удовлетворить первичную потребность или усладить глаз. Приобретаете, потому что все люди вашего круга имеют эту вещичку. Она, так сказать, показатель вашего жизненного успеха.
Все профессора Гарвардского университета ездят на «мерседесах». Вы же привыкли к старомодному «пежо». Однако если вы дорожите своей принадлежностью к высшему слою — извольте купить себе новый автомобиль.
Престижное потребление стало в середине прошлого столетия массовым. Даже в нашей нищей стране появились тогда товарные символы. Работники сферы обслуживания метили себя золотыми зубами. Это считалось показателем благосостояния. Потом, когда некоторые из этих людей оказались в Израиле, выяснилось, что с золотыми зубами вообще нигде не устроишься на работу.
Еще одна реальная социальная предпосылка рекламы — рождение массового общества. Массовое общество продвинулось в создании одной культуры значительно дальше, чем общество любого другого типа. Региональные культурные различия уменьшились, стерлись классовые, профессиональные и даже возрастные различия. Более широкое единообразие было диалектически связано с, появлением большей индивидуальности. Со смягчением священного характера власти центр тяжести переместился на индивида. Конечно, как указывают критики массового общества, во многих отношениях положение личности в нем не лучше, чем в обществе с иерархической и традиционной структурой. Тем не менее перемены были значительными.
Многие западные философы, в том числе Т. Адорно, Э. Фромм, Ж. Эллюль, выступили в качестве социальны» критиков массового общества. Так, известный французский социолог Ж. Эллюль (род. 1912) не просто объявил мировой исторический процесс «обессмысленным», не только поставил под сомнение прогрессивно-поступательный характер общественного развития. Программа французского исследователя шире: он приступил к развернутому обличению прогресса в его наличных формах. Положительный идеал Эллюля включает в себя определенную идею поступательного развития общества, но она предполагает возрождение утраченных форм социального устроения, создание таких условий, при которых окажется возможным богатое человеческое творчество.
Эллюль полагает, что идея массового общества враждебна человеку, его внутреннему миру. Регуляторы человеческого поведения надлежит, по его мнению, находить в себе самом, в собственном внутреннем космосе. В работе «Аутопсия революции» он отмечает, что некоторые принципы и положения, лежащие в основе его концепции, можно найти у персоналистов. Однако в отличие от них он предпринимает скрупулезный анализ исторически сложившихся форм социального общежития, государственных и политических установлений, общественных институтов.
Эллюль предлагает современному человеку и конкретную программу преодоления «технической болезни» нашего времени: каждый должен искать пути сопротивления техническим воздействиям. При этом личность может опираться на собственную свободу, которая не есть, однако, «неподвижный фактор, захороненный в человеческой природе или человеческом сердце».
Как утверждает Эллюль, история представляет собой набор альтернатив. Разумеется, обстоятельства диктуют (и весьма настоятельно) конкретные формы поведения, но реальность не есть нечто фатальное, необоримое. Ни поступательное развитие человечества, ни всесилие техники сами по себе не могут служить свидетельством того, что ход истории заведомо однонаправлен, законосообразен. Человек в состоянии преобразовать действительность, разрушить ее «заклятье», если он уверует в собственную спонтанную самобытность и сбросит с себя оковы всевозможных «иллюзий».
Каковы же эти иллюзии? Прежде всего, к ним относятся иллюзии по поводу техники. Эллюль утверждает, что развитие техники превратилось в самоцель, что она разрушила и уничтожила традиционные ценности всех без исключения обществ, создала единую «выхолощенную» культуру. Техника лишила человека свободы и изуродовала его духовный мир. Философ приходит к убеждению, что в условиях современного общества произошел распад системы ценностей. Вот почему он предлагает объявить «крестовый поход» за возрождение утраченных идеалов, за воскрешение ценностей, которые отвергаются массовой культурой.
Многие исследователи, взявшие на себя роль социальных критиков, подчеркивают наркотический характер массовой культуры. Г. Андерс, М. Хоркхаймер, Р. Бауэр и др., анализируя современную практику массовой коммуникации, определяют ее как «индустрию грез». Радио, кино, телевидение расцениваются ими как гигантские каналы общества, репродуцирующие иллюзии, распространяющие эталоны чувств и поступков, создающие сноподобную культуру, без которой немыслима современная цивилизация. В этих концепциях искусство рассматривается не как средство отражения действительности, а как резервуар тайных символов, иллюзорных знаков и образов.
В начале прошлого века рационалистически ориентированные исследователи верили, что новая техника углубит и расширит человеческое общение, обогатит механизмы демократии. Теперь же, приглядываясь не только к политической, но и культурной жизни, многие из них пишут об угрозе духовного тоталитаризма, об опасности массовых психозов и непредвиденных страхов, чреватых губительными последствиями.
Скорости электрической коммуникации (так западные культурологи и философы называют современные технические средства общения) столь высоки, что потоки кадров обрушиваются на зрителей и слушателей мощным потоком. Ежесекундно человека будоражит новая волна сообщений. И кажется, будто стирается грань между событием и его воспроизведением. Поэтому западные исследователи полагают, что массовая культура возвращает взрослого человека на оральную стадию развития, и он, подобно ребенку, жадно поглощает все, что ему преподносят. Многие ученые с грустью констатируют: люди веками боролись за то, чтобы иметь больше свободного времени, а теперь так глупо растрачивают его.
О наркотизирующей функции массовой культуры в современном обществе писали и американские социологи П. Лазарсфельд (1901—1976) и К. Мертон (род. 1910). Они подчеркивали, что массовая культура отвлекает людей от реальной жизни, питает их вымышленными картинами, погружает общество в летаргический сон. И авторы призывают скорее осознать пагубную роль массовой культуры и внести серьезные коррективы в ее практику.
Большинство философов культуры утверждают, что массовая культура вообще привела к деструкции личности, лишив человека подлинности чувств и переживаний. Все, что происходит, например, между влюбленными, стимулируется анонимными эмоциями, которые в виде музыки или поэзии несет эфир. Число примеров, иллюстрирующих злой рок массовой культуры, можно увеличить. Язык многих народов становится грубее и примитивнее, ибо распространение средств связи медленно и неуклонно уничтожает локальную специфику и прелесть речи. Рождается «расфасованный» язык... Чтение превратилось в непопулярное занятие. Человек стал объектом манипуляции, он целиком окутан клейкими грезами массовой культуры. Настала пора манипулирования массовым сознанием, когда можно дирижировать модой, досугом и поведением людей.
Западная, а теперь и отечественная философия культуры полна мучительных вопросов: не стала ли массовая культура школой стереотипов? не нависла ли угроза над личной свободой индивида вследствие того, что миллионы людей разглядывают теперь в одно и то же время одни и те же лица, «потребляют» одни и те же образы? не стала ли коллективная греза фантастическим массовым наркотиком?
Итак, говоря о массовой культуре и массовом сознании, порожденным ею, важно видеть их отличие от того, что было характерно для традиционного общества. В условиях традиционного общества поведение человека регулировалось в основном действием стихийных экономических сил и традиций, а не прямым давлением со стороны социальных институтов, которые предумышленно стремились бы проникнуть в эмоционально-психологический мир человека с целью его «перековки». В современном обществе возникает потребность в прямом регулировании поведения людей. Массовое сознание начинает все больше подвергаться целенаправленной обработке, принимающей «индустриальные формы». Сегодня не обойтись без развернутой «индустрии сознания», цель которой унификация духовной жизни, стандартизация интеллектуальных реакций в рамках усложнившейся в современном обществе социальной структуры. Феномен массовой культуры рожден, судя по всему, массовыми процессами идеологической практики современного общества.
В этих условиях начинается собственно рекламный век. В 1843 г. в Филадельфии молодой человек по имени Волней Палмер открыл первое рекламное агентство. Предприятие было примитивным по сегодняшним стандартам, обеспечивая, как отмечают В.В. Ученова и Н.В. Старых, только посреднические услуги между газетным издателем и рекламодателем. Вскоре после этого появились рекламные агентства с полным обслуживанием, предлагающие клиентам широкий диапазон услуг: от планирования информации до создания и подготовки рекламных объявлений. Наряду с ними возникло множество маркетинговых исследовательских фирм, рекламных и информационных агентств и лиц, занимающихся опросом общественного мнения Университетские преподаватели также быстро включились в дело.
К началу 1890-х гг. в университетах начали появляться новые курсы с направлениями типа: «Принципы рекламы», «Умение торговать» и «Оптовая и розничная торговля». Были изданы академические учебники с названиями: «Реклама и ее психологические законы» или «Психология в рекламе» — с обещанием преподать искусство убеждения, по крайней мере, в применении к рекламе и продажам.
Не много времени потребовалось для применения принципов рекламы к пропаганде политических идей и кандидатов. Один из первых примеров такого их использования можно встретить в отношении к Первой мировой войне. В книге, впервые изданной в 1920 г. и озаглавленной «How We Advertised America» («Как мы рекламировали Америку»), Дж. Крил, издатель и руководитель комитета по общественной информации, гордо оповестил, как он и его комитет использовали принципы рекламы, чтобы убедить американцев воевать против Германии. Успех Крила вдохновил и других применять и развивать эти методы в широчайших масштабах.
Литература
Гуревич П.С. Культурология. — М., 2003.
Московичи С. Машина, творящая богов. — М., 1998.
Тоффлер Э. Третья волна. — М., 1999.
Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы, или Метаморфозы рекламного образа: Учебник для вузов. — М., 1999.
Хачатурьян А.В. Шоу-бизнес как явление современной культуры. — Ростов н/Д, 2002.
Эллюль Ж. Политическая иллюзия. — М., 2003.
Вопросы по теме
1. Что такое протореклама?
2. Была ли реклама в традиционном обществе?
3. Какие функции имеет вещь как предмет потребления?
4. Что такое массовая культура?
5. Когда и почему сложился вещизм?
6. Как объяснить социальный феномен рекламы.
 2 Тема.
2 Тема.


 МОДА
МОДА
| Д |
изайнер одежды, столичная модница и профессиональная покупательница Маша Цигаль пишет:
«Я люблю необычные магазины, необыкновенные вещи. Я могу совершить шопинг в любом городе, даже там, где покупать нечего. Я не люблю Милан. Во-первых, это некрасивый город, он меня угнетает, и перспектива бродить по этим некрасивым улицам в поисках вещей меня пугает. Во-вторых, мне не нравятся итальянские дизайнеры — их вычурная роскошность, гламурность, сексуальность в кубе меня не впечатляют».
Если вы любите молодежный стиль, стритфэшн и хотите купить, классные джинсы, модную олимпийку или экстремальное платье, то вам нужен Лондон. Мне нравятся магазины в Лондоне. Там можно найти очень классные вещи. В каждом лондонском магазине своя фишка, они компилируют различные вещи и объединяют их общей идеей. В Лондоне очень крутые продавцы. Они сами стильно выглядят, они в стиле магазина. Мне нравится для шопинга Токио: там есть дизайнерский квартал, где молодые дизайнеры открывают свои магазины. Там можно купить и дешевые вещи, и очень дорогие. А рядом стоят мультибрендовые магазины, где есть все — английские, американские, итальянские, французские дизайнеры, даже дизайнеры из Гонгонга. Я не поклонница американских дизайнеров. Париж — тоже классное место. Там замечательные магазины, и оформлены с большим вкусом. Когда витрины одинаковые — это скука. Приятно, если витрины меняются...»
Мода — это совокупность групповых предпочтений, определяющих эстетический вкус людей и их поведение. Немецкий философ. И. Кант (1724—1804) отмечал, что человеку присуща естественная склонность сравнивать себя в своем поведении с тем, кто более значителен (ребенку со взрослым, простому человеку — с более знатными людьми), и подражать их образу действий. Закон такого подражания, где совершенно не принимается во внимание соображение пользы, называется модой1. Кант относит моду к тщеславию, поскольку в ее намерениях отсутствует внутренняя ценность, а также к глупости, так как она принуждает рабски следовать примеру.
Быть модным — дело вкуса. Того, кто, не сообразуясь с модой, сохраняет верность старым привычкам, называют старомодным. Того же, кто намеренно старается быть не модным, — чудаком. Все-таки лучше, считает Кант, быть глупцом по моде, чем глупцом не по моде.
Мода уже по своему понятию всегда требует меняющегося образа жизни. Она становится привычной, и тогда вкус больше не принимается во внимание. Мода прививается благодаря новизне. Мода, по существу, есть дело не вкуса, а только тщеславия. Она деспотична. Вспомним у А.С. Пушкина: «Быть можно умным человеком и думать о красе ногтей. К чему напрасно спорить с веком? Обычай — деспот средь людей».
|
Что порождает периодическую смену образцов культуры и массового поведения? Отчего мода захватывает разные стороны жизни человека? Как рождается стиль внутри моды?
Мода в работах современных философов и психологов рассматривается как сложный феномен, в орбиту которого включены важнейшие социальные, научно-технические, экономические, культурные процессы в жизни людей2.
 1 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Кант И. Соч.: В 8 т. — М., 1994. - Т. 7. - С. 277.
1 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Кант И. Соч.: В 8 т. — М., 1994. - Т. 7. - С. 277.
2 См.: Бердник Т.О. Дизайн костюма. — Ростов н/Д, 2000.
Многие исследователи определяют моду как господство в рамках определенной культуры тех или иных вкусов, связанных со стилем жизни, обычаями и привычками поведения. Огромное воздействие оказывают на моду ценностные и практические установки людей.
По мнению М.Н. Мерцаловой, мода в строгом значении начала складываться во Франции в эпоху позднего Средневековья, когда в костюме стали появляться признаки, характерные для моды и составляющие ее сущность. Предпосылки для возникновения моды сложились объективно и отразили кардинальные изменения, произошедшие в политической, экономической и культурной жизни народов и государств конца XIII — начала XIV в.
 Мода может возникнуть только в обществе, где есть хотя бы минимальное излишество. В XVIII в. лишь немногие жилища имели ванную. Пищу готовили по-деревенски, на дровах или древесном угле. Только в XIX в. появилось газовое освещение. Но вот цивилизация набирает обороты. В конце XIX в. улицы некоторых столиц заливает электрический свет. Технический прогресс создает определенные стили. Это сказывается на внутреннем устройстве жилища, его оформлении, на выборе предметов обихода.
Мода может возникнуть только в обществе, где есть хотя бы минимальное излишество. В XVIII в. лишь немногие жилища имели ванную. Пищу готовили по-деревенски, на дровах или древесном угле. Только в XIX в. появилось газовое освещение. Но вот цивилизация набирает обороты. В конце XIX в. улицы некоторых столиц заливает электрический свет. Технический прогресс создает определенные стили. Это сказывается на внутреннем устройстве жилища, его оформлении, на выборе предметов обихода.
«Мода отличается от обычая, или, вернее, она представляет особенный род обычая», — напишет в 1776 г. английский экономист Адам Смит1 (1723—1790). Мода, по его мнению, захватывает не всех, а только людей, занимающих высшее положение в обществе. Легкость, изящество, обаяние, свойственное внешнему виду знатных людей, так же, как богатство и великолепие их костюма, придают, так сказать, особенную прелесть любой форме их одежды. Пока формы эти употребляются ими, до тех пор они связываются в нашем воображении с представлением о чем-то прекрасном и чарующем. Но стоит моде уйти, как и сама одежда или иной предмет теряет очарование и прелесть.
Одежда и мебель во времена Смита уже находились под влиянием моды и обычая. Но мода простиралась и дальше — на предметы, зависящие от вкуса, то есть на музыку, на поэзию, на архитектуру. Менялась мода и на внутреннее убранство дома. Появилось новое явление — скоротечность моды. Самый лучший костюм носится не дольше того срока, пока он в моде. Мода на мебель меняется менее быстро, поскольку мебель представляет собой вещь более прочную и более ценную. Однако за пять или шесть лет происходит полный переворот во вкусах. Произведения искусств сохраняют себя на больший срок. Например, изящное здание может признаваться таковым много веков. Песня, сохраняемая преданием, может передаваться через несколько поколений. Великая поэма может жить столетия.
Обычай и мода, считает А. Смит, оказывают сильное влияние на понятие прекрасного. Английский экономист пытается понять, от чего складывается диктат моды. Если, например, возможность указать на разумное основание, почему дорическая капитель должна лежать на колонне в восемь поперечников вышиной, почему ионический завиток должен венчать колонну в девять поперечников, а коринфский лиственный венец — колонну в десять поперечников?
 |
1 Смит А. Теория нравственных чувств. — М., 1997. — С. 195
Установление подобных правил может быть объяснено только привычкой и обычаем. Так как глаза привыкли к определенным размерам, связанным с подобным украшением, то они были бы поражены отсутствием этой связи.
Каждому архитектурному ордеру принадлежат свойственные ему украшения, перемещение которых не может не произвести дурного впечатления на человека, знакомого с правилами этого искусства. Некоторые архитекторы уверяют даже, что изящный вкус древних до такой степени верно выбрал украшения, свойственные каждому ордеру, что лучших и выбрать невозможно. Но если обычай установил какие-либо особенные правила для сооружений и если правила эти не безусловно плохи, то нет никакой причины заменять их другими, столь же хорошими и даже более изящными и приятными.
«Человек показался бы смешным, если бы появился в обществе в костюме, который никто не носит, хотя этот костюм и был бы более удобен и приятен, чем тот, что освящен обычаем и модой. Таким же точно образом нам кажется неприличным отделывать наши квартиры иначе, чем это всеми принято, даже если бы новые украшения и заслуживали предпочтения»1.
А. Смит отмечает, что в последние 50 лет музыка и архитектура испытали в Италии значительные изменения вследствие подражания оригинальным образцам некоторых великих художников. Квантилиан упрекал Л. Сенеку (ок. 4 до н.э. — 65 н.э.) в том, что тот испортил вкус римлян и осквернил суетными украшениями строгую мысль и мужественное красноречие. Г. Саллюстию (86 — ок. 35 до н.э.) и Тациту (ок. 58 — ок. 117) делались такие же упреки, только в другом роде: говорилось, что они ввели в употребление слог, который, несмотря на свою удивительную сжатость, изящество, выразительность и даже поэтичность, был лишен простоты и естественности и давал знать о тяжелой работе, затраченной на его отделку.
Обычай и мода оказывают влияние не только на произведения искусства. Они обусловливают и суждения о красоте. Какие разнообразные и противоположные формы принимаются за красоту в различных видах живых существ! Размеры, которые мы ищем в одном животном, противоположны размерам, которые нравятся нам в другом. Каждый вид животных в природе имеет свое устройство и особенную красоту, совершенно непохожие на устройство и красоту других видов.
Французский религиозный философ и филолог Клод Бюфье (1661—1737) установил, что красота каждого предмета вообще состоит в форме и в цвете, свойственных тому классу предметов, к которому он принадлежит. Поэтому красота каждой черты человека состоит в среднем удалении от неприятных черт, поражающих нас в наших ближних. Красивый нос, например, не должен быть ни слишком длинен, ни слишком короток, ни слишком широк, ни слишком узок: он должен равно отстоять от этих крайностей и отличаться от каждой из них менее, чем они отличаются друг от друга.
 1 Смит А. Указ. соч. — С. 196.
1 Смит А. Указ. соч. — С. 196.
Совсем иной образ жизни у диких и варварских народов. Говорят, отмечает А. Смит, что североамериканские дикари при любых обстоятельствах сохраняют невозмутимое хладнокровие и считают малодушием обнаружить хоть на минуту, что они побеждены любовью, горем или негодованием. Они удивляют европейцев своим мужеством и самообладанием. Можно было бы подумать, что в этой стране, где все люди равны по званию и богатству, браки совершаются без всяких затруднений и что они заключаются не иначе как по взаимному соглашению. А между тем все они без исключения устраиваются через посредство родителей: молодой человек считал бы себя обесчещенным, если бы выказал хоть какое-нибудь предпочтение одной женщине перед другой и если бы не выказал совершенного равнодушия, как к невесте, так и к дате заключения брака.
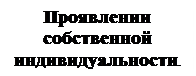 Живость и воодушевление, обнаруживаемые французами и итальянцами в разговоре о самых обыкновенных предметах, поражают всех иностранцев, которым случится увидеть их. Молодой французский дворянин, которому отказали в ходатайстве о получении полка, был в состоянии заплакать, не краснея, в присутствии всего двора. Итальянец обнаруживает больше волнения, когда его приговаривают к штрафу в несколько сот лир, чем англичанин, которому читают смертный приговор.
Живость и воодушевление, обнаруживаемые французами и итальянцами в разговоре о самых обыкновенных предметах, поражают всех иностранцев, которым случится увидеть их. Молодой французский дворянин, которому отказали в ходатайстве о получении полка, был в состоянии заплакать, не краснея, в присутствии всего двора. Итальянец обнаруживает больше волнения, когда его приговаривают к штрафу в несколько сот лир, чем англичанин, которому читают смертный приговор.
Немецкий социолог XIX в. Г. Зиммель (1858—1918), уделявший много внимания феномену моды в контексте общественных отношений, определил ее как компромисс между тенденцией к социальному уравнению и склонностью личности к проявлениям собственной индивидуальности. С одной стороны, мода существует как массовое подражание всеобще признанным модным образцам, с другой — выражает стремление человека с ее помощью достичь индивидуализации и самостилизации своего внешнего облика. Противоречивый характер моды отражается и в ее цикле: массовость выступает одновременно и условием возникновения моды, и причиной ее угасания, умирания — в тот момент, когда определенная форма одежды обретает массовую популярность и, казалось бы, находится на пике моды, модельеры начинают работу над новой линией.
По мнению Т.О. Бердник, моду можно представить как улицу с двусторонним движением: с одной стороны, сама действительность диктует дизайнеру свои объективные требования и подсказывает актуальные идеи, с другой, эти идеи, художественно осмысленные, оригинально оформленные и реализованные дизайнером, овладевают массами. Двуединство субъективного и объективного, исторически сложившихся в обществе культурных предпосылок появления новых модных тенденций и индивидуального сознания художника — эти тенденции обнаруживающего и рекламируемого составляют противоречивую сущность моды. Объективный фактор в подобном альянсе выступает как определяющий, однако его действия всегда проявляются только через влияние субъективного фактора. Живя в среде с определенной материальной культурой, невозможно оставаться свободным от ее влияния. Объективный характер моды, невозможность существования человека — члена социума — вне этого культурного явления наглядно демонстрирует такой феномен, как антимода. Антимода отражает стремление определенного круга людей одеваться и вести себя согласно своим собственным представлениям, отличным от нормативных правил, предписанных «приличным» обществом. Этот протест против установившихся в обществе правил и идеалов имеет глубокие исторические корни. В современном обществе он находил выражение в движении битников, хиппи, панков, создававших в свое время своеобразные молодежные субкультуры. Но, рождаясь как альтернатива общепринятому вкусу, антимода обречена со временем обратиться в свою противоположность — в официальную моду, сохраняя при этом формальные внешние проявления, но утрачивая идейное содержание. Таким образом, значение моды состоит в том, что она является одним из способов трансляции и функционирования некоторых феноменов культуры — ценностных установок, стиля, вкуса, эстетического идеала. Рассматривая жизнь общества как противостояние противоположностей, Г. Зиммель обращает внимание на такой психологический механизм, как подражание. Он определяет его как процесс перехода от групповой к индивидуальной жизни. Привлекательность подражания, по мнению социолога, в том, что она представляет возможность целенаправленной и осмысленной деятельности и там, где нет ничего личного и творческого. Подражание можно было бы назвать порождением мысли и бессмыслия. Оно дает индивиду уверенность в том, что он в своих действиях не одинок и возвышается над другими. Таким образом, подражание освобождает индивида от мучений, связанных с выбором, и позволяет ему выступать просто в качестве творения группы, сосуда социальных содержаний. Влечение к подражанию как принцип характерно для той стадии развития, когда склонность к целесообразной личной деятельности жива, -но способность обрести для нее или из нее индивидуальные содержания отсутствует. Дальнейшее продвижение состоит в том, что мысли, действия и чувства кроме данного, прошлого, традиционного определяет и будущее. Так Г. Зиммель описывает условия моды как постоянного явления в истории нашего рода. Она представляет собой подражание данному образцу и этим удовлетворяет потребности в социальной опоре, приводит отдельного человека на колею, по которой следуют все, дает всеобщее, превращающее поведение индивида просто в пример.
Однако она в такой же степени удовлетворяет потребность в различии, тенденцию к дифференциации, к изменению, к выделению из общей массы. Это удается ей, с одной стороны, благодаря смене содержаний, которая придает моде сегодняшнего дня индивидуальный отпечаток, отличающий ее от моды вчерашнего и завтрашнего дня; еще в большей степени это удается ей потому, что она всегда носит классовый характер. Мода высшего сословия всегда отличается от моды низшего, причем высшее сословие от нее сразу же отказывается, как только она начинает проникать в низшую сферу. Тем самым мода — не что иное, как одна из многих форм жизни, посредством которых тенденция к социальному выравниванию соединяется с тенденцией к индивидуальному различию и изменению в единой деятельности.
Г. Зиммель задается вопросом о значении истории моды, которая до сих пор изучалась только со стороны развития ее содержаний, для формы общественного процесса. Мода является историей попыток как можно удачнее приспособить эти две противоположные тенденции к состоянию данной индивидуальной и общественной культуры. В эту основную сущность моды входят отдельные психологические черты, которые можно в ней наблюдать.
Мода означает, с одной стороны, присоединение к равным по положению, единство характеризуемого ею круга и именно этим отъединение этой группы от нижестоящих, определение их как не принадлежащих к ней. Связывать и разъединять — таковы две основные функции, которые здесь неразрывно соединяются; одна из них, несмотря на то или именно потому, что она является логической противоположностью другой, служит условием ее осуществления. Мода, по мнению Г. Зиммеля, является просто результатом социальных или формально психологических потребностей. С точки зрения объективных, эстетических или иных факторов целесообразности невозможно обнаружить ни малейшей причины для ее формирования.
Зиммель показывает, что если в общем, например, наша одежда по существу соответствует нашим потребностям, то в форме, которую придает ей мода (следует ли носить широкие или узкие юбки, взбитые или округлые прически, пестрые или черные галстуки), нет и следа целесообразности. Модным подчас становится столь уродливое и отвратительное, будто мода хочет проявить свою власть именно в том, что мы готовы принять по ее воле самое несуразное; именно случайность, с которой она предписывает то целесообразное, то бессмысленное, то безразличное, свидетельствует о ее индифферентности к объективным нормам жизни и указывает на другую ее мотивацию, а именно на типично социальную как единственно остающуюся вероятной.
По мнению Г. Зиммеля, мода теперь все больше связывается с объективным характером трудовой деятельности в сфере хозяйства. Как только где-нибудь возникает предмет, который затем становится модой, так другие предметы специально создаются для того, чтобы стать модой. Господство моды особенно невыносимо в тех областях, где значимость должны иметь лишь объективные соображения. Но ведь та или иная религия, конкретное научное открытие, социализм как учение тоже были в свое время не чем иным, как модой. Однако тщетно искать объективность моды. Ее предметы часто лишены эстетической привлекательности, а социальные воззрения — целесообразной содержательности.
Мода способна придавать одежде, вещам оттенок фривольности. Стиль поведения человека обусловлен модой. Однако, по словам Г. Зиммеля, мода присуща только высшим сословиям. Едва она проникает в «низы», так сразу же утрачивает свой статус. Высшие сословия сразу же отказываются от данной моды и принимают новую. Вряд ли Зиммель мог подозревать, что в последующий век мода нередко будет проникать в "верхи» именно из демократических слоев общества. «Низы», согласно немецкому социологу, стремятся «вверх». Таков и вектор моды. Однако последующая история моды раскрыла и иные процессы, присущие ей.
Г. Зиммель приходит к убеждению, что в низших сословиях мода редко бывает разнообразной,и специфичной. Мода выражается в обособлении: походка, темп, ритм, язык жестов. Но все это в значительной мере определяется одеждой. Одинаково одетые люди ведут себя сравнительно одинаково. В этом есть еще один момент. Человек, который может и хочет следовать моде, часто надевает новую одежду. Новая же одежда больше определяет нашу манеру поведения, чем старая, которая, в конце концов, меняется в сторону наших индивидуальных жестов, следует каждому из них и часто передает мельчайшие особенности наших состояний.
Моде с самого начала свойственно влечение к экспансии, будто ей каждый раз надлежит подчинить себе всю группу; однако, как только это удалось бы, она была бы уничтожена как мода вследствие возникновения логического противоречия ее сущности, ибо полное распространение снимает в ней момент отъединения. Нечто новое и внезапно распространившееся в жизненной практике не будет названо модой, если оно вызывает веру в его длительное пребывание и фактическую обоснованность. Лишь тот назовет это модой, кто уверен в таком же быстром исчезновении нового увлечения, каким было его появление. Поэтому одним из оснований господства моды в наши дни в сознании людей является также то, что глубокие, прочные, несомненные убеждения все больше теряют свою силу. Арена сиюминутных, изменяющихся элементов жизни все расширяется. Разрыв с прошлым, осуществить который культурное человечество беспрерывно старается в течение более ста лет, все более связывает сознание с настоящим.
Отношение к модному, по мнению Г. Зиммеля, несомненно, таит в себе благотворное смешение одобрения и зависти. Модный человек вызывает зависть в качестве индивида и одобрение в качестве представителя определенного типа. Однако и эта зависть имеет здесь определенную окраску. Существует оттенок зависти, который отражает своего рода идеальное участие в обладании предметами зависти. Завидуя предмету или человеку, мы уже не абсолютно исключены из него, мы обрели известное отношение к нему, между нами уже существует одинаковое душевное содержание, хотя и в совершенно различных категориях и формах чувства. По отношению к тому, чему мы завидуем, мы находимся одновременно ближе и дальше, чем по отношению к тому, что оставляет нас равнодушными. Зависть позволяет измерить дистанцию, что всегда означает отдаленность и близость; безразличное же находится вне этой противоположности. Зависть может содержать едва заметное владение своим объектом (как счастье в несчастной любви) и тем самым своего рода противоядие, которое иногда препятствует проявлению самых дурных свойств чувства зависти.
Мода увлекает, прежде всего, тех, кто не обладает внутренней самостоятельностью. Она возвышает незначительного человека тем, что превращает его в особого представителя общности, в воплощение особого общего духа. В щеголе общественные требования моды достигают высоты, в которой они полностью принимают вид индивидуального и особенного. Для щеголя характерно, что он выводит тенденцию моды за обычно сохраняемые границы. Если модной стала обувь с узкими носами, то носы его обуви превращаются в подобие копий. Если модными стали высокие воротники, то его воротники доходят до ушей. Если модным стало слушать научные доклады, то его можно найти только среди слушателей. Он опережает других, но в точности следуя их путем.
В действительности же к нему применимо то, что во многих случаях применимо к отношению между отдельными людьми и группами: ведущий, в сущности, оказывается ведомым. При демократическом правлении это особенно заметно. Многие выдающиеся лидеры партий в конституционных государствах подчеркивали, что они, будучи вождями группы, должны следовать ее требованиям. Напыщенность щеголя является, таким образом, карикатурой. Если следование моде, по словам немецкого философа и социолога Г. Зиммеля, является подражанием социальному примеру, то намеренная немодность — подражание ему с обратным знаком. Она не менее свидетельствует о власти социальной тенденции, от которой мы зависимы в позитивном или негативном смысле. Человек, намеренно не следующий моде, исходит из совершенно того же содержания, что и щеголь, подводя, однако, это содержание под другую категорию, не под категорию усиления, а под категорию отрицания.
Даже в целых кругах большого общества может стать модой быть немодным — одно из поразительных социальных переплетений, в которых оно, во-первых, является просто инверсией социального подражания, а во-вторых, основывает свою силу на поддержке внутри узкого круга единомышленников; если бы конституировался союз противников союзов, он был бы логически не более невозможен и психологически не более возможен, чем данное явление. Подобно тому, как атеизм превратился в религию и стал отличаться таким же фанатизмом, такой же нетерпимостью, такой же способностью удовлетворять душевные потребности, как те, которые были свойственны религии. Свобода, сломившая тиранию, часто оказывается не менее тиранической и насильственной, чем ее преодоленный враг, — и явление тенденциозной немодности показывает, насколько человеческие существа готовы вбирать в себя полную противоположность содержаний и демонстрировать их силу и привлекательность на отрицании того, с утверждением чего они, казалось, были неразрывно связаны.
Нежелание следовать моде может происходить из потребности не смешиваться с толпой, потребности, в основе которой лежит если не независимость от толпы, то внутренняя суверенная позиция по отношению к ней. Но она может быть также проявлением слабости и чувствительности, при которой индивид боится, что ему не удастся сохранить свою не слишком ярко выраженную индивидуальность, если он будет следовать формам, вкусу, законам общности. Оппозиция ей — далеко не всегда признак силы личности; сильная личность настолько сознает своеобразие своей ценности, которой не грозит внешнее попустительство, что она не только без всякого опасения принимает общие формы вплоть до моды, но именно в этом послушании осознает добровольность этого послушания и того, что находится вне его.
Г. Зиммель был одним из тех мыслителей, которые проявляли в XIX в. скептическое отношение к женщинам. Поэтому он отмечает особое пристрастие их к моде. Дело в том, что слабость социального положения, которое женщины преимущественно занимали в истории, вела их к тесной связи с тем, что является «обычаем», «что подобает», к общепринятой и оправдываемой форме существования. Ибо слабый человек избегает индивидуализации, необходимости опираться в практической жизни на само-го себя, ответственности и необходимости защищаться только собственными силами. Такому человеку защиту дает только типическая форма жизни, которая сильному человеку препятствует использовать свои превосходящие других силы. Однако на почве твердого следования обычаю среднего, общего уровня женщины стремятся к достижимой и при такой установке относительной индивидуализации и к отличию.
Именно эту комбинацию и предоставляет им мода — с одной стороны, область всеобщего подражания. Исторические данные также свидетельствуют о том, что мода служит как бы вентилем, позволяющим женщинам удовлетворить их потребность в известном отличии и возвышении в тех случаях, когда в других областях им в этом отказано. В XIV и XV вв. в Германии наблюдалось чрезвычайно сильное развитие индивидуальности. Свобода личности в значительной степени ломала коллективистские порядки средних веков. Однако в этом развитии индивидуальности женщины еще не принимали участия, им еще возбранялись свобода передвижения и развития. Женщины возмещали это самыми экстравагантными и гипертрофированными модами.
Напротив, в Италии в ту же эпоху женщинам предоставлялась свобода для индивидуального раз-вития. В эпоху Возрождения они обладали такими возможностями образования, деятельности, дифференциации, которых не имели впоследствии едва ли не на протяжении столетий; воспитание и свобода передвижения, особенно в высших сословиях, были почти одинаковы для обоих полов. И у нас нет никаких сведений об экстравагантных женских модах в Италии этого времени. Потребность утвердить свою индивидуальность и обрести исключительность отсутствует, ибо проявляющееся в этом влечение получило достаточное удовлетворение в других областях.
Существенный признак моды в том, что она стрижет всех под одну гребенку, но всегда так, что она не охватывает всего человек и всегда остается для него чем-то внешним, даже в областях вне моды одежды. Именно поэтому она всегда остается, как было сказано, на периферии личности. Этим значением моды пользуются именно тонкие и своеобразные люди как своего рода маской. Слепое повиновение общим нормам во всем внешнем сознательно служит им желанным средством сохранить свои чувства и свой вкус настолько полно лишь для самих себя, что не хотят сделать их открытыми и доступными другим. Поэтому некоторые люди прибегают к нивелирующей маскировке, которую представляет мода.
Для всех массовых действий, подчеркивает Г. Зиммель, характерна утрата чувства стыда. В качестве элемента массы индивид совершает многое из того, чему бы он решительно воспротивился, если бы ему предложили сделать что-либо подобное, когда он один. Одно из поразительных социально-психологических явлений, в котором находит свое выражение этот характер массового действия, заключается в том, что некоторые моды требуют бесстыдства, от которого индивид возмущенно отказался бы, если бы ему предложили подобное, но в качестве закона моды беспрекословно принимает такое требование. Чувство стыда в моде, поскольку она массовое действие, так же полностью отсутствует, как чувство ответственности у участников массового преступления, от которого каждый в отдельности из них в ужасе бы отказался. Как только индивидуальное выступает сильнее общественного, требуемого модой, чувство стыда сразу же ощущается; так, многие женщины постеснялись бы появиться у себя дома перед одним мужчиной столь декольтированными, какими они бывают в обществе, где того требует мода, перед тридцатью или сотней.
Мода — также одна из тех форм, пос
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 405; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!