
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Ганс. Колетт 5 страница
Оружие.
Предметы обихода.
Но стада посетителей здесь устремлены только в одну сторону.
Только к одной цели.
Вот он лежит.
На фиолетовой подушечке,
под стеклом.
Зубастый и непроницаемый.
Пояс целомудрия.
Это своеобразное металлическое седло, железное «жди меня»[cclxxxix], хранившее неприкосновенность жен в долгие годы военных походов их повелителей по горячим пескам Святой земли…
Озорные рассказы прошлого говорят о том, что у ключей бывали дубликаты…
Нагулявшись по залам, подхожу к старому сторожу-хранителю.
«Там, там!» — кричит он мне хриплым голосом.
Я еще не успел задать вопроса.
А он уже экспансивно машет руками, протягивая указательный палец в угол переполненной залы.
«Там!»
Бедный старик! Я ищу совсем не того.
Я двигаюсь совсем не в строну пояса целомудрия (я уже нагляделся на него вдоволь!).
А ты, завидев посетителя, подходящего к тебе с вопросом, не допускаешь у него иной мысли, кроме любопытства по поводу местонахождения этого игривого предмета.
«Там, там!» — мимирует и жестикулирует престарелый француз, {259} полагая, что очередной перед ним турист — я — не задаю вопроса только потому, что я иностранец, не знающий языка.
«Там, там», — тысячу раз в день ему приходится показывать на этот угол.
Но привычная реплика у него застревает в горле: этот странный посетитель ищет не пресловутый пояс. Он всего-навсего хотел бы узнать, где находится туалетная комната. Музеи днем настраивают на легкомысленный лад.
Рыщем по музею Тауэра в Лондоне.
Он поражает набором лат.
Вот стоит на лестнице главного входа, широко раздвинув ноги, стальная оболочка Генриха VIII.
Громадный кованый шар живота надменно выдвинут вперед.
Локти прижаты.
Ноги — растопырены.
Кажется, что обитатель этих лат только что на мгновение отлучился, сохранив свой отпечаток в изгибах железных листов, как сохраняют складки материи следы изгиба фигур.
Латы кажутся стальным пиджаком, навсегда сохранившим характер и повадку их плотоядного носителя.
Латы. Латы. И латы.
Ходим между ними вместе с чудным профессором Кингс-колледжа рыжим мистером Айзексом.
Близорукие добрые светлые глаза, ироничный ум, неизбежный у знатока прошлого, особенно — если его специальность — эпоха театра Шекспира, повадка диккенсовского персонажа, черные перчатки и неотлучный черный зонтик и калоши в любое время дня и года.
С ним же мы рыскали вдоль старинных уличек Оксфорда, где каждый дом имеет свою особенную историю и свою дату.
И каждую дату и каждую историю каждого домика знает этот неисчерпаемый кладезь познаний, скрывающий насмешливые щелки глаз за толстыми очками без оправы.
Впрочем… Во взгляде я уверен. В очках — нет.
Может быть, он их не носит.
Но они так просятся в ансамбль к зонтику и калошам, что я не могу удержаться от того, чтобы не надеть их на него, хотя бы в виде пенсне с цепочкой!
Так имели очки и пенсне неотразимую привлекательность для наших бойцов Первой Конной армии в годы гражданской войны. Боец считал высшим достижением элегантности — очки или {260} пенсне. По две‑три пары очков подчас украшали молодого лихого вояку, видевшего в них не то эмблему солидности, не то символ учености, но, во всяком случае, нечто из ряда вон выходящее.
… Он же водит меня по Хемптон-Корту и Виндзору.
Там мы любуемся героическими композициями Мантеньи[ccxc] и причудливым «Похищением Ганимеда» Рубенса[ccxci]. Ганимед здесь — толстый мальчишка лет шести-семи. Смертельный перепуг его разражается струйкой, которую не может удержать мальчуган.
Струйка эта вошла в русскую литературу.
Именно она заставляет Пушкина вспомнить при описании гор в «Путешествии в Арзрум» сходство гор этих с пейзажем фона этой картины, и именно потому, что и там сквозь туманы низвергаются струйки — струйки горных водопадов.
… В Виндзоре нам не везет.
Открыт только замок.
Музей закрыт.
Это лишает меня возможности увидеть карандашные рисунки Гольбейна. Жаль.
Еще более жаль — не увижу собрания манускриптов Леонардо да Винчи.
Приходится удовольствоваться молитвенным лицезрением его почерневших записных книжечек в витринах другого музея-базара — «Виктория энд Альберт Мюзиум» в Лондоне.
Отчасти компенсирует Итон.
Этот холодный каменный мешок, куда учеником на десяток лет вперед записывается молодой джентльмен в самый момент его рождения.
Это первое звено воспитания будущего английского джентльмена во всей нерушимости британских традиций.
Собственно, ничего не понятно в образе британца, и британца — государственного деятеля в особенности, без того, чтобы [не] посетить очаги его последовательного формирования — Итон, Кембридж (или Оксфорд), Лондон с Тауэром, Вестминстером, закрытыми клубами и Уайтхоллом.
Итон. Опять тюдоровские арки.
Газоны.
Эффект в «манере Домье» от итонских цилиндров в сумерках[ccxcii].
Классная комната, лишенная стекол, как при королеве-девственнице.
{261} Непомерные столбы, идущие вдоль середины помещения, неспособны компенсировать отсутствие тепла.
Но столбы эти — реликвии победы над разбитой «Великой армадой». «Великая армада», с малых лет известная по страницам истории, всегда казалась легендой — чем-то вроде Летучего голландца или «Старого моряка» Колриджа.
Здесь — в этих мачтовых столбах, ставших пилонами и толстыми школьными партами под потомками победителей, — здесь армада становится реальностью.
У мальчишки — все равно, наследственный ли он лорд, принадлежит ли он к лучшим семьям или к подонкам, — у мальчишки всегда непреодолимое желание: резать парту ножом.
Но парты Итона — реликвии.
На толстенных досках их есть следы порезов ножами.
Но и эти порезы по давности своей — не меньшие реликвии.
Современных порезов на них не видно.
Естественный порыв мальчиков метить окружающее начертанием собственного имени в Итоне рационализован и приведен в некие культовые формы.
Этажом выше, рядом с комнатой, где хранятся розги, имеющие хождение и по сей день, имеется специальная комната.
Если нижний этаж поражает полной наготой холодных каменных стен, то здесь — небольшая комнатка, сплошь выложенная деревом.
Этим она напоминает комнату Виндзорского дворца, чем-то, не помню, чем именно, связанную с памятью кардинала Уолси.
Эта комнатка, совсем не такая уж маленькая, отведена для удовлетворения естественного инстинкта подрастающего джентльмена.
Здесь он безнаказанно дает волю своему импульсу — врезать в мягкие части дерева угловатое начертание своего имени.
Так он будет поступать всю жизнь.
Не преодолевать жадного порыва инстинкта.
Но систематизировать обстановку и поле его приложения, рационализировать формы проявления своих импульсов.
Но тем неумолимее, сохраняя внешнюю бесстрастность, вонзать беспощадность своего волевого импульса в тело раз поставленной перед собой цели и задачи.
Этим британские джентльмены похожи на небезызвестного студента из рассказов Аркадия Аверченко.
Он решил безумствовать.
{262} Но, привычный к студенческой расчетливости, прежде чем разбивать что-либо из окружающего, он точно справлялся о стоимости предмета.
После чего в «безудержном порыве» разгула разбивал то, что оказывалось ему по карману.
От этого самый «пыл», введенный в строгое русло, не только не ослабевал. Наоборот. Даже возрастал.
Так и с британским джентльменом.
Однако пока что в Итоне это — не более собственного имени, врезаемого вместе с датами и инициалами в деревянную облицовку стены.
Еще не тавро, выжигаемое на новом объекте приобретения. Еще не знак принадлежности и власти. Только имя как имя.
Имена располагаются столбиками.
В столбиках по нескольку раз подряд повторяются одни и те же фамилии.
Братья?
Сличаем даты.
Нет!
Прадед.
Дед.
Отец.
Сын.
Внук.
Правнук.
Несколько поколений Шелли.
Несколько — Байронов.
Бесчисленных лордов.
И самых уважаемых фамилий Великобритании.
И эти столбики фамилий разной степени потускнения в зависимости от количества лет, в течение которых на них оседает пыль проходящих столетий, кажутся позвоночниками одного несгибающегося хребта — чопорной и строгой фигуры британского джентльмена, каким он стоит в представлении и сознании других народов.
… Но вернемся в Тауэр.
До этого я прослушал лекцию мистера Айзекса по кафедре литературы в Кинге-колледже.
Облаченный в докторское крылатое облачение, отчего еще ярче пылали огненные опушки его полысевшего сверкающего черепа, — он только что в порядке подношения редкому посетителю {263} выбрал темой… энергичность языка елизаветинцев.
Два часа льется непрерывный поток цитат и образцов этой полнокровной, чувственно образной речи, словообразования и сочные метафоры которой можно, казалось бы, мять руками, как девок в тесноте стоячего партера «Глобуса», «Лебедя», «Блэк Фрайерс» или других театров великой эпохи.
Вероятно, веселый дух безудержных елизаветинцев, магически вызванный к жизни магом, облаченным в докторскую крылатку, сопутствует нам при этом посещении Тауэра.
Мы вместе с ученым моим спутником позволяем себе мальчишескую выходку.
По всей иерархической лестнице —
от сторожа зала
к сторожу отдела,
от сторожа отдела
к хранителю отдела,
от хранителя отдела
к хранителю раздела,
от хранителя раздела…
к директору —
растет недоумение в ответ на заявление-протест двух посетителей, одного английского и одного иностранного, что публику вводят в обман.
Публику вводят в обман «неполнотой в экспозиции лат».
У лат скрыта одна важнейшая деталь.
У всех лат — поголовно.
(Если «поголовно» — выражение, уместное для данного случая.)
Недоразумение разъясняется.
Оба посетителя ссылаются на Эрмитаж, где латы представлены целиком.
Так оно и есть. Известно, что рыцари носили каждую железную штанину одетую врозь.
Между ними полагался еще отдельный малый (не всегда) стальной предохранитель, нагло торчавший из-под стального прикрытия нижней части рыцарского живота.
Прекрасные образцы рыцарских доспехов из собрания Эрмитажа так и стоят в безмолвии отведенных им зал Зимнего дворца.
Пуританские хранители Тауэра лишили своих стальных рыцарей этого существеннейшего атрибута мужественной агрессивности.
Раблезианский подтекст протеста по поводу «неполноценности» {264} лат прежде всего доходит до директора,
от директора к хранителю раздела,
от него к хранителю отдела,
к сторожу отдела,
к сторожу зала
и даже к пузатым латам Генриха VIII.
Кажется, что они сотрясаются хорошим, жирным, фальстафовским смехом, который от кабинета директора вниз по всей иерархической лестнице прокатывается хохотом под сводами Тауэра по поводу темы протеста двух придирчивых посетителей: одного английского профессора литературы и одного путешествующего иностранца.
* * *
Директор музея древней культуры пламени майя в городе Чичен-Итца (на полуострове Юкатан) вздумал меня провести по залам музея ночью, когда нет посетителей.
Музеи ночью —
особенно музеи скульптуры —
удивительны!
Никогда не забуду ночной прогулки по залам античной скульптуры Эрмитажа в белую ночь.
Я тогда снимал сцены «Октября» в Зимнем дворце и во время каких-то перестановок света прошелся соединительными переходами из Зимнего в Эрмитаж.
Зрелище было фантастическим.
Молочно-голубая мгла вливалась в окна с набережной.
И в голубой мгле казались реющими и оживающими белые тени белых тел греческих статуй.
… В музее Чичен-Итцы случилось иначе.
Ночи там кромешно темные.
Тропикальные.
Их даже не освещает Южный Крест, который стыдливо вылезает на мексиканский небосклон только маленьким концом, совсем около нижнего края пышной астрономической карты звездного неба, распялянной над Юкатанским полуостровом и Мексиканским заливом.
А в музее перегорело электричество как раз в тот момент, когда мы переступали через порог сокровенного «секретного отделения» {265} музея, где хранится запечатленный в камне разгул чувственного воображения древних майя.
Они [статуи] еще выигрывали в причудливости, нелепости, диспропорции и… масштабах оттого, что внезапно выхватывались из темноты зажигавшейся спичкой, вспыхивавшей то там, то здесь.
Толстой где-то, не то в «Детстве», не то в «Отрочестве», описывает эффект молнии, освещавшей вспышками мчащихся лошадей[ccxciii].
Вспышки были так мгновенны, что успевали выхватить только по одной фазе движения фигур лошадей.
Лошади казались неподвижными.
… От неожиданных вспышек спичек в разных концах зала, заставленного каменными неподвижными чудищами, эти чудовища, наоборот, казались оживающими.
От изменения световых ракурсов во время световых перерывов при затухании спичек казалось, что за промежутки темноты каменные чудища успевали менять положения и перемещаться, с тем чтобы с новой точки глазеть на нарушителей их векового покоя своими широко раскрытыми, круглыми навыкат, мертвыми, гранитными глазами.
Впрочем, по вполне понятной причине у большинства из этих каменных чудищ, воздымавшихся из темноты, глаз и вовсе не было.
Были же глаза в особенности у тех двух бочковидных округлых богов, к которым меня сквозь каменные рифы прочих — в основном эллипсоидных — вела гостеприимная спичка хранителя сих драгоценных пережитков древности.
Свет и тени прерывались.
Переплетались.
Следовали в очередь друг за другом.
Но непрерывно льется речь моего Вергилия, водившего меня этим темным кругом преисподней ранних представлений человечества.
Факты за фактами из истории поверий о богах, одаренных «двоякой силой», вьются без устали сквозь эту смену света и тьмы. Сама смена тьмы и света начинает казаться сплетением светлого разума с темными глубинами человеческой психики.
Навстречу мне приветливо улыбаются два гранитных шаровидных бога, обладающих этой совершенной силой.
Почему их двое?
{266} Каждый из них устроен (или устроена?) так, что не нуждается вовсе в партнерше (или в партнере?).
Убедиться в этом можно только на ощупь.
Не только потому, что в зале темно.
Но потому, что сам предмет исследования затаен глубоко под глобусами животов.
«Не опасайтесь прикосновения, — говорит мне мой проводник, — прикосновение это считалось, да и до сих пор считается целебным и снабжающим прикасающегося великой силой.
Вы чувствуете, как сильно стерся гранит…»
И в памяти проступает известная статуя Петра в одноименном соборе в Риме.
Нога, наполовину сцелованная губами истово к ней припадавших.
Здесь дело проще и явственнее.
Прикосновение, хотя бы символическое, к этим статуям богов есть приобщение к ним самим. Прикосновением к их «двоякой силе» касающийся сам приобретает часть этой сверхчеловеческой силы.
Чудодейственная сила оправдывает себя.
Внезапно вспыхивает электричество, и конец нашего паломничества к богам, включившим в себя противоречия, мы заканчиваем в желтоватых лучах электрического света.
Таинственное ушло вместе с сумраком теней.
Их спугнуло бесстыдное безразличие электрических лампочек среднего накала.
Освещенные рыжеватым их светом, круглые вытаращенные гранитные глаза моих таинственных знакомцев кажутся бессмысленными и глупыми.
Так в слепящем и неверном электрическом свете здравого смысла нелепицей кажется и все, связанное с ними.
Но стоит перегореть лампочке или перехватить дыхание у динамо-машин электрической станции, — и вы целиком во власти темных подспудных сил и форм мышления.
Сплетение же световых озарений с провалами мрака дает и на путях воображения такие же феерические прогулки по таинственным путям искусства, какими мы шли вначале по этим залам, когда на нас как будто надвигалась своеобразным «Ночным дозором» Рембрандта игра светотеней на телах вертикальных каменных чудищ, лишенных бород, усов, веселых глаз, пышных шляп и шарфов фламандских блюстителей порядка.
{267} * * *
… По-настоящему музеи следует посещать в одиночестве и ночью…
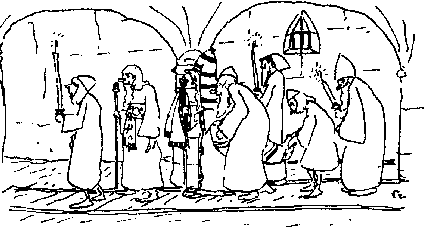
{268} Встреча с Маньяско[ccxciv]
Иногда трудно бывает вспомнить первые встречи с будущими любимцами.
Как я узнал и полюбил Ван-Гога?
По-моему, по Щукинскому музею[ccxcv].
Меня затащил туда впервые — надо сказать, на второй или третий день пребывания в Москве — кто-то из приятелей-москвичей, помешанных на Гогене.
Гогена я никогда особенно не любил.
За исключением «Желтого Христа», которого знал по репродукции в книжечке Тугендхольда о французской живописи[ccxcvi].
Читал ее из чужих рук в Гатчине, служа в военном строительстве. В восемнадцатом году. Затем книжку утащил.
Репродукция была бесцветная.
В цвете увидел его значительно позже.
И очень разочаровался.
Я предполагал гамму вовсе иной — пронзительный хром на фоне ультрамарина и кобальта с белыми пятнами головных уборов бретонок. На деле оказалось какое-то фрез-экразе шаровидных розовых кустов, худосочно кремовое тело Христа, невнятный тон пейзажа…
Это случилось уже после того, как самый рисунок фигуры Христа я использовал для всех крестов и распятий в «Иване Грозном».
Взлет рук распятой фигуры, поворот головы и скорбное искажение лика (the twist[172], как пишут о стетсонах![173]) были именно тем, что мне было нужно, и я сбил с ног моих алма-атинских сотрудников, чтобы достать репродукцию.
Щукинский набор «Гогенов» приятнее по тонам, но все же тоже {269} конфизери[174], похожее на цветочные клумбы.
И сквозь его пеструю манерность, похожую на розовых лангустов, запутавшихся в голубоватых водорослях, меня сразу же потянуло к другим.
Матисс не прельстил.
Пикассо — заинтриговал.
Странные глазастые дамы Ван-Донгена привлекали.
Но больше всех увлек Ван-Гог.
Мейер-Грефе ездил в Испанию поклоняться Веласкесу и вдруг натолкнулся на Эль Греко[ccxcvii].
Исчез Веласкес, и остался пленительный мастер из Толедо.
Меня повели восторгаться Гогеном, а я с разбега влетел в увлечение Ван-Гогом.
Кстати, почти так же началось и увлечение самим Эль Греко.
Есть картины, которые так затасканы репродукциями, что невозможно глядеть на оригиналы.
Такова участь почти всего в Национальной галерее в Лондоне.
Ходишь как по страницам Мутера, Вёрмана[ccxcviii] и тому подобным гербариям, где сухо, невразумительно и скучно описаны и воспроизведены «общими планами» чересчур завершенные и доделанные шедевры.
Когда их видишь в натуре, они кажутся увеличенными цветными репродукциями с иллюстраций, знакомых по книгам.
На «Рождение Млечного пути» Тициана[ccxcix] невозможно смотреть.
С трудом смотрятся «Посланники» Гольбейна с перспективно скошенной картиной на первом плане.
Эти картины сочетают затасканность по репродукциям с чрезмерной записанностью письма.
Так невозможно глядеть на греков периода расцвета.
И от них глаз уже не отдыхает и на египтянах, населяющих Британский музей.
Режущая незавершенность мексиканской пластики, эскизность перуанских сосудов, сдвиг в пропорциях негритянской пластики — вот что нравилось моему поколению.
Поэтому из opus’ов Тициана привлекателен — и очень! — только «Папа Павел с племянниками».
А по Национальной галерее я шел, полусонно хлопая веками.
Впечатление от Лувра в целом неотделимо от Галери-Лафайетт и Мезон-Прентан[ccc], маскарада в Меджик-Сити или Бал-Кутюр {270} в Гранд-Опера.
Среди этой толкучки людей и картин, смешивающихся друг с другом в некое подобие цветочного базара или городского вокзала, ослепительно вспыхивают единичные «Энгры» («Мадам и мадмуазель Ривьер»), Домье («Криспен и Скапен»), портреты Клуэ, — остальное, включая «Джоконду», расплывается в каком-то мареве солнечных пятен, фигурной росписи потолков, потеющих туристов, шаркающих ног…
Так же пронзительно вырывается из скучных зал Национальной галереи «Моление о чаше» Эль Греко.
Вишневое облачение, словно бритвой, режет зелень.
Как голубое режет по желтому в «Святом Маврикии» или голубое — по фиолетовому в «Эсполио».
Каждый цвет [сам] по себе.
Ни вплыванья друг в друга,
ни зализанности смягчающего общего тона.
Цвета вопят, как фанфары.
Форма издевается над академичностью тел и облачений, строится режущими поверхностями тона, по которому прожилками хлещут следы бега кисти.
Фигуры взвиваются, превосходя винтом движения тополя Ван-Гога.
Перегибаются. Извиваются…
… Маньяско я встретил… в Одессе.
Шумливая Дерибасовская.
Вывеска Пружинера «Починка примусов».
Запах кошек и жареной «рибы».
Гладкая кладка каменных плит мостовой.
Белые фартуки дворников, только что приказом городского совета снабженных бляхами.
Красный плюш и черные ножки бесконечно неудобных кресел и тройного дивана в номере гостиницы.
Нитяные занавески.
Сухой ветер и пыль.
Безумная тоска в душе.
Я на несколько дней в Одессе проездом в Ялту[ccci].
Это не бьющий жизнью фонтан Одессы, когда мы снимали «Потемкина»,
Одесса массовок, катящихся с лестницы вниз,
Одесса, идущая тысячами людей по улицам к палатке Вакулинчука.
{271} Одесса прогулок по туману в порту.
Сейчас я в городе один.
Впереди предощущение неприятностей «Бежина луга».
Тоненькие деревца вдоль тротуаров.
Разрушенный «Сахалинчик»[cccii].
Старожилы рассказывают о пышных швейцарах, когда-то стоявших у подъездов публичных домов.
Дюк над пустынной лестницей.
Одиночество. Одиночество. Одиночество.
Тоска…
Бледно-желтое здание с серыми колоннами.
Одесский порт мертв.
Как же должна быть мертва Одесса, как тяжела тоска, чтобы
занести меня в это двухэтажное здание.
Здание — музей.
Типичный периферийный музей.
Подбитые золотые чашки и чайники разрозненных ампирных сервизов.
Немного карельской березы.
Поддельные копии с картин.
Порыжевшие груди и потемневшие пейзажи на необъятных холстах.
Поступившее из окрестных имений,
потом — попавшее по разверстке.
Так в Новгороде можно было увидеть в местном музее — «Итальянскую комедию» Бенуа и Борисова-Мусатова, в Переславле рядом с латунными буддами (их делали здесь, а потом возили в Монголию, откуда привозили как редкость!) — гуаши Буша и акварели Серебряковой,
в алма-атинском художественном аппендиксе при этнографически-дарвиновском музее рядом с двухголовыми телятами и «портретами» кибиток кочевников — заблудившихся Серова и Добужинского.
… Так же неожиданно в Одессе встретил я Маньяско.
Кто занес сюда эти два маленьких темных холста из жизни монахов?
Каким образом именно в Одессу забрели творения этого мастера, блуждающего где-то за пределами всеобщего признания и хрестоматийного приобщения к лику общепринятой клиентуры истории искусств?
Этой фамилии я не знаю и его картин никогда прежде не видел.
{272} Старательно запоминаю это имя, чтобы не забыть.
Это, вероятно, копии или варианты.
Известно, что он часто повторял сюжеты, и даже известно, что его подделывали.
Впрочем, все это становится мне известным лет через пятнадцать[ccciii], когда впервые попадает мне в руки монография Benno Geiger’а «Alessandro Magnasco» (1923 год).
Пока что в руки забирает Маньяско меня самого.
И не напрасно.
Кажется, что фигуры Греко еще похудели,
что их экстатические изломы еще острее изломались.
Мгновениями это уже не движение фигуры, схваченное кистью, но самовольно манерное движение кисти, торопливо замаскированное костями и дряблым телом аскетов, протянутыми руками, изысканно сложенными ладонями с длинными пальцами.
Еще чаще кажется, что это витиеватые и вычурные росчерки подписей, рассевшиеся в монашеских облачениях, чтобы согреть вокруг очага свои разбежавшиеся хвосты, петли, узлы и пересечения.
«Христос, помогающий Петру [выйти] из воды» кажется написанным не то Эль Греко, не то… Оноре Домье, «Нищие и уличные певцы» — Жаком Калло,
«Общество в саду» — Гойей или Лонги.
«Инквизиция» Гойи похожа на сколок с «Урока в [Миланском] соборе».
Осатаневшие монахи Маньяско как бы включают в одну цепь Греко и Гойю, Гойю и Домье.
Гойя, Домье, Калло, Лонги — все дорогие имена.
И много картинок Маньяско в течение многих лет скрывались под этими именами. Правда, кроме Домье, но зато с большим процентом холстов, приписываемых Сальватору Розе.
Маньяско родился в 1667 году. Умер в 1749‑м.
Мне Маньяско интересен тем, что, пожалуй, не столько Эль Греко, сколько монахи Алессандро Маньяско стилистически определили облик и движения моего Ивана Грозного — Черкасова.
{273} Встречи с книгами[ccciv]
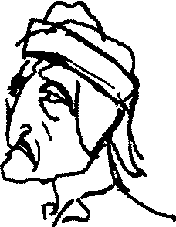
К некоторым святым слетаются птицы: в Ассизи[cccv].
К некоторым легендарным персонажам сбегаются звери: Орфей.
К старикам на площади Св. Марка в Венеции льнут голуби.
К Андроклу — пристал лев.
Ко мне льнут книги.
Ко мне они слетаются, сбегаются, пристают.
Я столько лет их люблю: большие и маленькие, толстые и тонкие, редкие издания и грошовые книжонки, визжащие суперобложками или задумчиво погруженные в солидную кожу, как в мягкие туфли.
Они не должны быть чересчур аккуратными, как костюмы только что от портного, холодными, как крахмальные манишки. Но им вовсе не следует и лосниться сальными лохмотьями.
Книги должны обращаться в руках, как хорошо пригнанный ручной инструмент.
<Я могу воровать их. Вероятно, мог бы убить.
Они это чувствуют.>
Я столько их любил, что они наконец стали любить меня ответно.
Книги, как сочные плоды, лопаются у меня в руках и, подобно волшебным цветам, раскрывают свои лепестки, неся оплодотворяющую строчку мысли, наводящее слово, подтверждающую цитату, убеждающую иллюстрацию.
В подборе их я капризен.
И они охотно идут мне навстречу.
* * *
Они роковым образом берут меня в кольцо.
Когда-то одна лишь комната мыслилась опоясанной книгами.
{274} Но шаг за шагом комната за комнатой начинают обвиваться книжным обручем.
Вот после «библиотеки» охвачен кабинет, вот после кабинета — стенки спальни. Честертона как-то приглашали прочесть реферат.
«О чем мне читать?» — спросил он, приехав на место.
«О чем хотите — хотя бы о зонтиках».
И Честертон строит реферат на расширяющейся картине волос, прикрывающих мысли, шляпах, прикрывающих волосы, зонтиках, покрывающих все.
… Так иногда мне видятся мои комнаты.
Токи движутся от клеточек серого вещества мозга через черепную коробку в стенки шкафов, сквозь стенки шкафов — в сердцевину книг.
Неправда! Нигде нет стенок шкафов — я держу их в открытых полках, и в ответ на ток мыслей они рвутся к голове.
Иногда сильнее алчность излучения к ним.
Иногда сильнее заражающая сила, несущаяся сквозь их корешки.
Кажешься сам себе новым святым Себастьяном, пронизанным стрелами, идущими с полок.
А черепной коробкой кажется уже не маленький костяной шарик, включающий осколки отражений, как монада Лейбница, отражающая, но рисуются наружные стены самой комнаты, а слои книг, распластанные по их поверхности, — лишь расширяющимися наслоениями внутри самой головы.
И при всем этом книги уж вовсе не такие необыкновенные, неожиданные, скорее, в своих сочетаниях, а не в их букинистической, коллекционерской или декорационной диковинности.
И разве что неканоничностью набора и полным отсутствием того, что положено иметь!
И часто ценны они мне не столько сами по себе, как комплекс представлений, которыми они окутаны для меня, [а] в результате случайной иногда странички, зажатой безразличием неинтересных глав, отдельной строчки, затерянной среди страниц, занятых совсем другими проблемами.
И вязкость этой «ауры», этих излучений (или туманностей?), роящихся вокруг самих виновников (и чем они ценнее мне самих творений), почти материализуется в подобие паутины, среди которой скользишь, боясь задеть [ее] или порвать, как тонкие и трепетные нити ассоциаций. И кажешься себе подобием мудрецов с Лапуты, трепещущих за сохранность своих паутин[cccvi].
{275} Иногда полуискренние доброжелатели старательно доказывают мне, что это вовсе не паутина, но что это — натянутые струны колючей проволоки, отгораживающей меня книжной мудростью от живой действительности.
Доброжелатели эти полуискренни, и истинность их утверждений полуправдива.
Таковы же и придирки касательно обилия цитат.
Цитаты! Цитаты! Цитаты!
[Кто-то] сказал: «Лишь тот, кто боится никогда не быть процитированным, сам избегает цитат»[cccvii].
Цитаты! Цитаты! Цитаты!
Еще князь Курбский, этот элегантный автор трактата о знаках препинания[cccviii], а в остальном изменник родины, корил царя Ивана Грозного за цитаты.
|
|
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 354; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!