
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Роман с легендами, без ложной скромности, для взрослых читателей 3 страница
|
|
|
|
(Собственно говоря, смутная память о пожилом, сутулом и похожем на моего отца Исааке Башевис‑Зингере, из рук которого я получил тогда эту премию, дала мне право именно с его слов начать этот роман…)
Уффф! Я сам устал от такого длинного вступления к моему выходу из строгого сексуального голодания. Впрочем, нет, еще рано, я же должен рассказать, как я получил холл реформисткой синагоги на 72‑й стрит для мероприятий нашего Центра творческой интеллигенции. Хотя и так, наверное, ясно: выслушав мой рассказ о создании этого Центра и назвав меня «слепым поводырем слепых», Дэвид все‑таки позвонил директору этой синагоги и отправил меня к нему вслед за своим звонком.
А теперь прошу вас на наш вечер творческой интеллигенции – уверяю, на таком концерте вы не бывали никогда! Больше того, не только ни одна синагога в мире, но и ни один концертный зал не видел и не слышал сразу такого количества звезд, суперзвезд и пульсаров!
Во‑первых, феерически играла Нина Бейлина, лауреат международных конкурсов имени П.И. Чайковского в Москве, Дж. Энеску в Бухаресте и М. Лонг – Ж. Тибо в Париже.
Впрочем, стоп! Сначала о публике. В этот вечер в зал синагоги на 72‑й стрит пришли более трехсот человек – актеры, музыканты, литераторы, кинематографисты, художники. В числе именитых гостей были руководитель Толстовского фонда князь Теймураз Багратион и певец Михаил Александрович, лауреат Сталинской премии, золотой голос СССР и послевоенный кумир всех советских женщин, включая мою родную маму. Когда по радио Александрович своим божественным голосом пел итальянские песни, мама бросала все дела, садилась у репродуктора и тихо плакала о том, наверное, что никогда не увидит «Санта Лючию» и, тем паче, не вернется в Сорренто, поскольку не была там никогда…
А тут я объявил собравшимся, что вслед за кумиром моей мамы выступает новый невозвращенец, солист Большого театра, только три недели назад бежавший из Италии на Запад, – Юрий Стефанов. А после выступления Стефанова доложил, что партийная организация Большого театра направила на наш вечер еще двух делегатов – балетмейстеров Суламифь и Михаила Мессереров. Эти, как известно, сбежали в Токио. Легендарная Суламифь была до войны примой Большого и любимой танцовщицей Сталина, при этом удерживала звание чемпионки страны по плаванию, была удостоена Сталинской премии, а также ордена Великобритании «За заслуги перед искусством танца». А когда ее сестру Рахиль Плисецкую отправили в ГУЛАГ как жену расстрелянного врага народа, Суламифь взяла к себе сестриных детей Алика и Майю – ту самую, будущую богиню танца…[3]
Понятно, что собравшиеся бурными аплодисментами утвердили и Стефанова, и Мессереров в члены Культурного центра.
Затем выступали: певица Ирина Артишевская (доцент Минского университета), ленинградский мим Симон Кудров, квинтет Марка Баренбойма (Тбилисская консерватория), Валерий Шевченко (доцент Новосибирской консерватории), Марина и Костя Уманские (Одесская консерватория), Яков Тульчинский (Ленинградская консерватория), балетмейстеры Юлий и Любовь Взоровы (Свердловск) и многие другие. То есть, в одном концерте – география всей страны, и это всего лишь первое отделение!
А еще один – и главный! – фурор случился во втором отделении, когда без всякого объявления и лишь под музыку знаменитого «Ке‑ля‑ля» на сцене в своем черном трико и белой бабочке возник Борис Амарантов, мим и жонглер, лауреат VIII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Хельсинки, собиравший стадионы своими эстрадно‑цирковыми номерами, знаменитый фильмами «Попутного ветра, “Синяя птица”» и «Любовь к трем апельсинам» и создатель Московского театра пантомимы. После того как советские партийные власти закрыли этот театр и буквально выбросили Бориса из профессии, он был вынужден зарабатывать на жизнь, служа ночным сторожем, два года просидел в отказе, и вот он в Нью‑Йорке, на сцене нашего Культурного центра.
Несмотря на позднее время, мы час не отпускали его со сцены, да и он, стосковавшийся по зрителям, с вдохновением показал все свои великолепные номера.
Вот такое «эмигрантское отребье» – так именовала нас советская пресса – собралось в тот вечер на открытие нашего Культурного центра. Но, пожалуй, самый главный результат этого вечера – ощущение товарищества, которое возникло, когда разобщенные эмиграцией люди снова почувствовали себя в своем кругу, обнимались, обменивались телефонами и договаривались о будущих встречах…
А для меня… Когда в час ночи я, уже спеша на сабвей, выходил из зала, Миша Кацман сказал:
– Тут тебя ждала одна американка… – и оглянулся по сторонам.
– Она уехала, но оставила записку, – сказала Мэри Перлова, одна из сестер‑двойняшек и активисток нашего Центра, и подала мне сложенный вчетверо листок.
Я развернул этот листок, там было лишь несколько слов: My name is Elianna Davidzon. You can call me tomorrow 516‑254‑1712 (Меня зовут Элианна Давидзон. Можете позвонить мне завтра 516‑254‑1712.)
– Сколько ей лет? – тут же спросил я у Мэри.
– Не знаю. Двадцать, двадцать три.
– А как она выглядит?
– Рыжая… Красивая… – сказала Мэри.
Вот я и дорвался, господа!
Ее большая упругая грудь пахла крыжовником, молоком и медом, ее теплое, с золотой опушкой лоно манило жадной и жаркой лощиной, ее сильные ноги аркой выгибали ее белое тело навстречу моему напору…
Впрочем, я, конечно, должен был начать эту главу совершенно иначе – как наутро, едва дождавшись, когда Миша смоется на работу, я позвонил этой Элианне, переводчице моей «Шереметьевской таможни». Оказалось, что она, студентка Колумбийского университета, только что прилетела из Вены, где проходила стажировку в ХИАСе и где Дэвид Харрис дал ей прочесть мою «Шереметьевскую таможню», которую она тут же и перевела. «У вас в рукописи было написано, что это первая глава книги “Еврейская дорога”, – сказала Элианна по телефону. У нее был тот старательно правильный русский, каким отличаются выпускники славянских факультетов лучших американских университетов. – А вы написали продолжение?» «Конечно, – ответил я. – Хотите прочесть?» «Очень!» – вдруг произнесла она с таким доронинским придыханием, что у меня похолодел живот. «Приезжайте», – произнес я как можно небрежней. «Когда?» – «Да хоть сейчас!» – «А какой у вас адрес?» Я назвал свой адрес. «Извините, я буду только через два часа, – сказала она. – Я буду ехать с Лонг‑Айленда».
Ровно через два часа я нетерпеливым постовым стоял перед своим домом на 189‑й стрит, ожидая, как мне было сказано, синий Shevrolet Corwette Stingrey 1976 года. Честно говоря, я понятия не имел, как выглядит «Корвет Стингрэй» любого года выпуска, но когда снизу, от Гудзона, с жутким ревом, превосходящем даже рев моста Джорджа Вашингтона, на меня помчалась мощная синяя торпеда весом, наверно, тонны три, я, еще не видя огненно‑рыжую Элианну, уже понял, что через несколько минут буду повержен, раздавлен и счастлив.
Но, конечно, некий протокол был соблюден. То есть, она – рыжее облако в потертых джинсовых шортах с бахромой и в линялой футболке прямо на голое, без всякого лифчика тело – запарковала свою безумную машину, и мы, тут же утонув в глазах друг друга, вознеслись, взявшись за руки, на четвертый этаж, в мою комнату. Там, на тумбочке рядом с моим матрацем, уже лежали листки со второй главой моего «романа века».
– Эли, ты будешь кофе или чай? – спросил я по‑русски, тут же сокращая дистанцию до близости отсутствующего в английском «ты».
– Это неважно, – ответила она. – Я могу это читать?
– Можешь…
Она взяла листы, прислонилась спиной к подоконнику и стала читать. Солнце било ей в спину через поднятую раму окна, отчего рыжая пена ее волос казалась настоящим пламенем, открытые белые плечи сверкали, как слоновая кость, а большая грудь выпирала из бирюзовой майки огромными тугими сосками, как у ботичелливской Паллады. Я с трудом сдерживал себя, чтобы немедленно не наброситься на нее необузданным еврейским Кентавром и не загрызть до смерти. Но все‑таки сдержался и, следуя бегу ее карих зрачков, мысленно следил за текстом…
«Я не помню, чтобы кто‑нибудь из нас повернулся к иллюминатору бросить прощальный взгляд на занесенные снегом ельники вокруг Шереметьевского аэропорта. Двадцать семь эмигрантов‑беженцев, мы, буквально замерши, сидели во втором салоне самолета и не верили ни реву турбин, ни тряске нашего ТУ‑124, бегущего по взлетной полосе. Неужели? Неужели это произошло? Неужели нас выпустили?
В первом салоне летят четверо советских дипломатов – надменно отстраненные, в одинаковых серых костюмах и с глазами, глядевшими сквозь нас, как сквозь пустое место, еще там, в зале ожидания аэровокзала. А в третьем салоне сидят немецкие и австрийские туристы. Их тоже привезли к самолету и посадили отдельно от нас, как от прокаженных, а нас подвезли к трапу буквально за минуту до отлета – в обшарпанном автобусе, промороженном до инея на заклепках. Впрочем, вру – кроме эмигрантов, был в этом автобусе еще один человек; сначала мы даже приняли его за своего, но уже через минуту стало ясно, кто это. Высокий, широкоплечий, рыбьи глаза на бетонном лице, шляпа горшком, узенький засаленный галстук на несвежей рубашке, а потертый пиджак распирают мощная грудная клетка и пистолет под мышкой…
Когда, продержав нас у выхода из аэровокзала на продуваемом морозным ветром летном поле так долго, что у моей шестилетней племяшки Аси забелели щечки, и я, бросив свою пишмашинку, у которой несколько минут назад таможенники выломали буквы ”ф”, “ы” и ”в“, подхватил Асю на руки и сунул под пальто, – когда, повторяю, все‑таки подали этот гребаный автобус, бетоннолицый сфинкс был уже внутри него, он стоял возле шофера и молча смотрел, как мы входим и рассаживаемся. Ася по праву ребенка привычно пошла к первому ряду кресел, но жесткой рукой гэбэшника этот сфинкс тут же отстранил ее, как котенка, и так и стоял во главе пустых кресел, молча, как пень, все четыреста метров от вокзала до самолета. Зато в самолете он прошел через весь наш второй салон и сел в конце его, в последнем ряду, чтобы обозревать нас всех, как конвой.
Но нам уже было наплевать на него!
Как только самолет взлетел – да, как только мы ощутили, что колеса оторвались – оторвались! – вы понимаете – оторвались! – мы ОТОРВАЛИСЬ от советской власти, – Валерий Хасин, у которого только что таможенники отняли половину багажа, включая мельхиоровые вилки, громко и даже весело сказал:
– Не понимаю, они что? Боятся, что мы угоним самолет обратно в СССР?
Жена тут же одернула его:
– Тише! Не дразни его, черт с ним!
– Но ведь я уже на свободе!
– Не знаю… – осторожно ответила она.
Да, мы уже были на свободе, нас уже выменяли на техасские бурильные станки, пшеницу и кукурузу, но мы еще не простились с советской властью. И это было почти символично: в полупустом салоне советского самолета двадцать семь евреев – потных, усталых, возбужденных и немытых после двухсуточных мытарств в шереметьевской таможне, с детьми, с парализованной старухой, которая только что сотворила чудо (когда двое провожатых вынесли ее на руках из автобуса, она вдруг оттолкнула их: ”Опустите меня! Пустите! Я сама уйду с этой земли!”, встала на ноги и, шатаясь, действительно сама взошла по трапу!), и с двадцатичетырехлетним гигантом‑сварщиком из Одессы, умирающим от лейкемии на двух разложенных креслах (весь рейс он лежал с кислородной маской на лице, а его отец и я каждые десять минут трогали его босые желтые ноги – не остывают ли?), – так вот, мы, двадцать семь эмигрантов, и немцы‑австрийцы, тут же после взлета прибежавшие из третьего салона на помощь больному (среди них оказался врач, он дежурил возле умирающего весь рейс), – и все это был один полюс, человеческий и естественный. А рядом, всего в нескольких метрах от нас, был полюс другой – четверо кремлевских дипломатов, безучастно засевших в первом салоне, и наш бесстрастный конвой, торчавший в конце салона и наблюдавший за нами с каменно‑пустым лицом…
Те четверо дипломатов уже отстранились от нас, «предателей Родины», для них мы перестали существовать как люди, но их представитель с пистолетом под мышкой еще смотрел нам в затылки холодными дулами своих гэбэшных глаз. Больной лейкемией сварщик мог умереть – этот гэбэшник и с места бы не сдвинулся, парализованная старуха могла явить новое чудо, скажем, взлететь под потолок на своих высушенных старческих косточках, – он бы и бровью не повел. Но в таком случае на хрена он летел с нами и на кой черт грел под мышкой табельный пистолет Макарова и семь маленьких кусочков свинца калибра 9 мм? Неужели они боялись, что мы – парализованная старуха, умирающий сварщик и моя шестилетняя племяшка‑скрипачка – ринемся в пилотскую кабину, чтобы угнать самолет в Израиль?
Да, боялись!
Они нас боялись! И именно потому он грел под мышкой свой табельный ПМ…
Кто‑нибудь из тех австрийцев, американцев и англичан, которые без всякого таможенного досмотра проходили мимо нас на посадку в самолет и с отчужденным изумлением смотрели, как таможенники потрошат наши узлы и чемоданы, прощупывая каждый шов на нижнем белье, изымая серебряные вилки и семейные фотографии, вспарывая пакеты с манной крупой и лекарствами, ломая затворы фотоаппаратов и клавиши пишущих машинок (“А вдруг они золотые?” – с издевкой сказал мне таможенник), – кто‑нибудь из них может себе представить, что это такое – жить в стране, где правительство, КГБ, МВД и мудрая правящая партия постоянно боятся своих граждан, держат их под прицелом своих Первых отделов и Пятого управления и греют под мышкой девять граммов свинца персонально для каждого? Греют и с высоты своей власти смотрят на тебя пустыми глазами, ожидая команды, чтобы нажать курок, или бросить тебя в ГУЛАГ, или лишить работы, прописки…»
Блин! думаю я сегодня, почему в той России, которую нынче зовут демократической, никто уже не помнит о том времени? Почему нет в печати голой правды о подсоветской жизни? Почему нет мемуаров про обыденную совковую жизнь в партийных и профсоюзных собраниях и очередях за сахаром и мукой, маслом и мясом по талонам? Почему в школах нет сочинений на тему «проклятое время коммунизма», как мы писали о «проклятом царизме», и почему даже совковый гимн возрожден новодемократическим строем? Право, кто‑то мудро сказал, что у народов нет памяти…
Но в то утро я, конечно, ни о чем таком не думал. Я смотрел на эту рыжую фею, упавшую на меня с американского неба, на ее голые плечи в золотых веснушках, говорящих о буйном темпераменте, на ее грудь, темными сосками распирающую линялую майку, и с плохо сдерживаемым нетерпеним ждал, когда же она закончит читать мое великое творение. Так дрессированный бульдог, сдерживаемый строгим взглядом хозяина, роняя слюни, сидит перед куском свежего мяса, и только мелко дрожащий обрубок хвоста выдает его истинные чувства. Что ей осталось прочесть? Про то, как отцу умирающего от лейкемии сварщика – ветерану войны и боевому орденоносцу начальник шереметьевской таможни не разрешил взять в самолет двадцать пилюль, нужных, чтоб его сын живым долетел до Вены… А теперь про питерскую актрису Лину Строеву, у которой таможенники уже во время посадки в самолет сняли с руки последнее – обручальное – кольцо и отняли даже те сто десять долларов, которые мы имеем право вывезти… А теперь про то, как мою шестилетнюю племяшку Асю не выпустили на балкончик второго этажа аэровокзала, чтобы она махнула рукой своему отцу, оставшемуся в СССР, и как она, ученица школы для одаренных детей при Московской консерватории, достала из футляра свою окованную свинцовыми пломбами скрипку‑четвертушку и смычок и стала играть Шестую сонату Генделя, а Белла, ее мать и моя сестра, лихорадочно говорила ей: «Громче! Твой папа услышит! Громче!» – пока не пришла, цокая подковами сапог, суровая таможенница и не прервала этот концерт…
Дочитав, Элианна подняла на меня глаза. Крупные слезы текли по ее щекам и даже по носу. Я подошел к ней, двумя ладонями взял в руки ее лицо и жадными губами выпил эти слезы, как свой самый большой гонорар. Но не остановился на этом, а поцеловал ее в губы, которые покорно открылись навстречу моим губам. Минуту спустя мы уже были на полу, на моем матраце, и…
Ее упругая грудь пахла крыжовником, молоком и медом, ее теплое, с золотой опушкой лоно манило жадной и жаркой лощиной, ее сильные ноги аркой выгибали ее тело навстречу моему напору.
Когда‑то в Москве, где я работал в кино, я знал одного композитора‑песенника, маленького, как Шаинский, но оч‑ч‑чень большого бабника, успешно покорявшего чуть ли не двухметроворостых красавиц. «Слушай, как тебе это удается?» – спросил я у него. «Дорогой мой! – улыбнулся он. – Мне самое главное – подвести их к роялю…»
Теперь, как сказано у Бодлера, «с еврейкой бешеной, простертой на постели», упиваясь крыжовником ее сосков и медом сами знаете откуда, я мысленно возопил к небесам: Господи, даже если за каждую главу моего романа Ты будешь награждать меня только таким гонораром, я готов всю жизнь оставаться нищим…
Будущее показало, что Господь услышал мою молитву.
Однако, как говорят в Одессе, «недолго музыка играла» – резкий, громкий и безостановочный звонок в дверь разбудил нас, грешных и абсолютно голых. Утомленные уж не знаю каким раундом любви, мы уснули в обнимку, не укрывшись даже простыней. С трудом выпрастывая себя из полуобморочного бессилия, я сел на матраце и тупо глянул на часы – всего три часа дня! Сквозь открытые окна лупит солнце и гудит близкий мост Джорджа Вашингтона.
А звонок продолжал надрываться.
Кто это может быть? Миша на работе, да у него и ключи есть…
– Who is it? – не открывая глаз, произнесла Эли, даже ее упругие сиси сонно расплылись.
– Не знаю… – Я встал и, завернув бедра в смятую простыню, босиком пошел через гостиную к входной двери. – Иду! Кто там?
– Open the door! (Откройте дверь!) – послышался резкий мужской голос.
Неужели полиция? Какого хрена?
Я остановился перед дверью, в ее замочной скважине ключ торчал дужкой вверх – приведя Эли, я, оказывается, так спешил, что даже не запер квартиру!
– Who is there? (Кто там?) – спросил я снова.
– Open the door! – еще громче и злей приказал голос.
– Oh, my God! – тихо охнула за моей спиной Элианна.
Я оглянулся. Она, голая, стояла на пороге моей комнаты, и ужас застыл в ее глазах.
– It’s my father…
Ее отец?! Каким образом?
Тут, отпустив звонок, он двумя кулаками загремел по двери.
– Open immediately! (Откройте немедленно!)
– Just a second… (Одну секунду…) – потянул я время, наблюдая, как Эли скачет на одной ноге, пытаясь второй попасть в свои джинсовые шорты. Ее рыже‑солнечный лобок смешно скакал вместе с ней.
– Open right away! (Откройте сейчас же!) – гремел между тем голос из‑за двери.
– One moment, please…
Наконец, Эли натянула тесные шорты на свои роскошные бедра, метнулась за майкой в комнату и тут же выскочила обратно, снова прыгая на одной ноге и обувая на ходу босоножки.
Удары его кулаков уже сотрясали хлипкую дверь.
Я шагнул к этой двери и распахнул ее настежь.
Передо мной стоял высокий, метр девяносто, не меньше, штандартенфюрер Штирлиц в строгом сером костюме, белой рубашке и бордовом галстуке. Он был моим ровесником, ну, или чуть старше.
– It’s open (Она открыта), – произнес я невинно.
Он не обратил внимания на эту иронию, его ледяные глаза посмотрели на меня сверху вниз презрительно, как на вошь.
– Elian, go home! (Элиан, домой!), – сказал он поверх моей головы. – Now! (Сейчас же!)
Это now прозвучало, как удар хлыстом, и Эли, съежившись, тут же нырнула мимо меня в щель между фигурой отца и дверным косяком.
А он повернулся и, не дожидаясь лифта и не сказав мне ни слова, пошел за ней вниз по лестнице.
И это потрясло меня больше всего. Я, который только что любил или, говоря по‑русски, имел его дочь, был для него никто и даже – ничто.
Раздавленный, я подошел к окну, выходящему на 189‑ю стрит. Где‑то сбоку, справа, по‑прежнему гудел мост Джорджа Вашингтона, и внизу, в узком просвете улицы, широкое зеркало Гудзона отражало заходящее солнце. А прямо подо мной, через дорогу, Элианна, газуя сверх всякой меры, нервно, рывками выводила с парковки своего синего торпедообразного монстра по имени Shevrolet Corwette Stingrey 1976 года. И рядом с ней, но чуть позади, не то пастухом, не то надзирателем нависал черный Mercedes‑Benz 560 SEL. На его лобовом стекле ветер трепал прижатую «дворником» розовую квитанцию‑штраф за нелегальную парковку посреди мостовой. Но хозяин «мерседеса» даже не счел нужным снять эту квитанцию. Дождавшись, когда «корвет» выехал на проезжую часть и рванул вверх по улице, он конвоиром покатил за своей дочерью.
Я проводил их взглядом и еще постоял у окна, слушая рев ее машины, все удаляющийся в сторону Квинса и Лонг‑Айленда. А потом перевел взгляд на свой матрац, сдвинутый нашими страстями поперек комнаты. Рядом с ним, на полу, пеной этих страстей валялись скомканные простыни.
Н‑да, – горько сказал я сам себе, – недолго музыка играла…
В печку интереса эмигрантов к WWCS – первой русской радиостанции в США – нужно было постоянно подбрасывать информационные дрова, чтобы люди знали и видели, на что мы расходуем присланные ими деньги. Поэтому раз в неделю я публиковал в «Новом русском слове» репортажи и фотографии из нашей будущей студии на двенадцатом этаже офисного здания № 500 на Восьмой авеню. Здесь Карганов и Палмер сняли под нашу радиостанцию целую анфиладу комнат, и я подробно описывал, как Дмитрий Истратов и Арнольд Басов, бывшие звукорежиссеры Киевской киностудии, радиоинженер Михаил Каплан и инженер трансляционного центра WBIA Джей Гольберг монтируют новенькую звукотехнику и радиооборудование, как столяры обивают стены будущей студии пробковыми щитами для полной звукоизоляции от шумов Восьмой авеню и расположившейся по соседству, на нашем же этаже, редакции газеты «Новый американец» во главе с Сергеем Довлатовым, Виктором Меттером и Евгением Рубиным, а мебельщики заполняют новыми канцелярскими столами, креслами и шкафами мой кабинет, фонотеку и комнату редакторов и синхронных переводчиков.
В ответ на эти репортажи приходили новые чеки и посылки для нашей фонотеки – грампластинки и кассеты с классической музыкой, песнями Вертинского, Утесова, Козина, Шульженко и других звезд российской эстрады, а также передачами «Радионяни». Хотя грабители шереметьевской и брестской таможен отнимали у эмигрантов ковры, серебряные ложки, обручальные кольца и даже семейные фотографии, принуждая нас всех становиться ярыми антисоветчиками, мы не расстались с Россией, а увезли ее с собой тоннами книг и грампластинок…
А еще я занимался составлением будущих радиопрограмм, подбором синхронных переводчиков и пиарил наше будущее радио не только в русской колонии, но и в высоких американских кругах. И, конечно, в этом моей первой помощницей стала Элианна Давидзон – как же без этого!
Ах да, я забыл рассказать, как она вернулась. Впрочем, сами понимаете, не мог же отец запереть ее дома и не пускать даже на занятия в Columbia University – Колумбийском университете. Тем более, что за летний курс в High Business school, Высшей бизнес‑школе этого университета, он заплатил 2200 долларов! А кампус этого университета находится как раз на западе 116‑й стрит, то есть всего‑то в семидесяти трех кварталах от меня по Риверсайд‑драйв. И вышло, что я, оказывается, очень удачно поселился – что такое семьдесят кварталов для «шевроле‑корвет» мощностью 270 лошадиных сил?! Ровно через четыре дня после позорного бегства Эли из моей квартиры, рано утром и буквально через минуту вслед за тем, как Миша ушел на работу, раздался телефонный звонок. Продирая глаза, я сонно подошел к телефону:
– Алло…
– It’s me, – робко сказала она. – Can I come over? (Это я. Могу я зайти?)
– Sure…
Я выглянул в окно. На улице Миша отъезжал с парковки на своем трижды латаном‑перелатаном «понтиаке», а на его место, всхрапывая мотором, уже парковался ее синий монстр. Эли, я понял, стояла тут давно и, как только увидела, что Миша вышел из дома, позвонила с угла, из уличного телефона‑автомата.
Но теперь мы уже не теряли время на чтение следующих глав моего нетленного «романа века». Как сказано у непревзойденного Исаака Бабеля: «Я не знаю, когда она успевала снять перчатки». Едва я закрыл за Эли входную дверь (на этот раз двумя поворотами ключа), как она, опередив меня, уже лежала абсолютно голая на моем еще теплом матраце и, простирая ко мне руки и высокую грудь с призывно торчащими сосками, виновато смотрела на меня снизу вверх своими лукаво‑карими глазами.
Я вспомнил, что Элианна на иврите 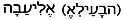
– «подарок Бога», и рухнул в ее чресла, раскинувшиеся победным знаком «V».
– I have only twenty six minutes to my lessons in my University, – шепнула она. (У меня только двадцать шесть минут до занятий в университете.)
Так началась эта игра в «кошки‑мышки» с ее по‑немецки настырным еврейским отцом. Очень скоро он просек сексуальные эскапады своей распутной дочери и стал выслеживать ее у меня до и после занятий в Business school Колумбийского университета. И первый раз ему это удалось довольно легко – по ее синему «шевроле‑корвету». Обнаружив его на 189‑й улице, мистер Давидзон уже наверняка знал, где его дочь, и вновь ломился в мою дверь. Но на этот раз я нашел противоядие. Подтянув телефон на всю длину провода поближе к входной двери, я, не снимая трубку, набрал на скрипучем диске «011» и закричал нарочито испуганно:
– Police! Help! Somebody is breaking my door! My name? I am Vadim Dvorkin! My address? It’s 350 West 189 Street, apartment 4K… (Полиция! Помогите! Кто‑то ломится в мою дверь! Как меня звать? Я Вадим Дворкин! Мой адрес? 350 Вест 189 стрит, квартира 4К…)
В ту же минуту мистера Давидзона как ветром сдуло.
Мы с Эли осторожно выглянули в окно.
Мигая аварийными огнями, черный «мерседес‑бенц 560 SEL» упрямо стоял напротив парадной двери моего дома.
– I have to go, – горестно сказала Эли. – Я должна идти.
– Откуда он знает мой адрес?
– Я дура, – призналась она. – Когда ты позвонил и продиктовал свой адрес – помнишь? – я так спешила к тебе, что оставила эту записку на столе.
– Как же ты меня нашла?
– Ну, я же в бизнес‑скул, у меня хорошая память…
Это был очередной вечер нашего Культурного центра в синагоге на 72‑й стрит. Поскольку сарафанное радио и «Новое русское слово» разнесли по кругам русской эмиграции восторги о нашем первом вечере, зал был не просто переполнен – люди стояли даже вдоль стен! Но я приготовил им совсем другую программу.
Арнольд Басов, в прошлом звукорежиссер Киевской киностудии, включил «Хава Нагилу». Прослушав первые такты, я жестом дал ему знак смикшировать звук и сказал в микрофон:
– Добрый вечер, друзья! Сегодня у нас необычный вечер. Сегодня в зале сидят Дэвид Харрис, которого вы все знаете по Вене и Риму… Подождите аплодировать. Рядом с ним Людмила Торн из «Дома Свободы», Эстер Рутберг из «Юнайтед Джуиш Апил» и Грета Шитакес, моя и ваша ведущая из НАЙАНЫ. И здесь же ребе Кугел, директор этой синагоги, который не понимает по‑русски, но я посадил к нему Элианну Давидзон, она ему все переведет. А теперь можете им поаплодировать, потому что это они боролись за то, чтобы нас выпустили из СССР, ходили на демонстрации, доставали своих конгрессменов и собирали деньги на нашу дорогу и наши пособия в Америке.
Зал охотно зааплодировал, гости принужденно встали и поклонились залу.
– А сейчас, – сказал я со сцены, – как президент Культурного центра, которого вы сами выбрали, я хочу открыто и честно сказать нашим гостям, что все, что вы рассказывали им в ХИАСе, в Американском посольстве и в НАЙАНЕ о бедственном положении евреев в СССР, – чистая ложь!
Зал возмущенно загудел, послышались голоса:
– Как ты смеешь? Негодяй! Предатель! Вон со сцены!
Я поднял руку:
– Одну минуту! Сейчас я вам докажу, что быть евреем здесь, в Америке, куда труднее, чем в СССР. Здесь, чтобы быть евреем, нужно ходить в синагогу, соблюдать еврейские праздники и, конечно, сделать себе обрезание. Иначе кто будет считать вас евреем? А в Советском Союзе? Если у вас папа или мама евреи – всё, вы уже еврей на всю жизнь, даже обрезание делать необязательно! Есть у вас обрезание или нет, знаете вы идиш или не знаете, соблюдаете субботу или не соблюдаете – неважно, всё равно вы еврей, и всё тут!..
Зал успокоился – понял, что я их развел.
– Правда, – сказал я, – некоторые пытаются уйти от своего еврейства, меняют фамилии, имена и отчества, и в паспорте, в графе «национальность», им за большую взятку пишут в милиции, что они русские, украинцы или даже узбеки. Но это не помогает. Потому что есть у нас такая поговорка: бьют не по паспорту, бьют по морде. А поговорки, как вы знаете, это выражение народного опыта. Представьте, какой опыт мордобоя нужно было схлопотать, чтобы родилась такая поговорка!
Тут Басов, сидя у магнитофона, включил «Эх, дубинушка, ухнем!».
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 209; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!