
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Особое приглашение
|
|
|
|

В детективном романе Татьяны Устиновой герой, услышав в свой адрес стандартную для русского языка формулу поторапливания «А тебе что, особое приглашение нужно?», рассуждает: вот, мол, с детства удивляюсь, что за особое приглашение такое? Всем обыкновенные приглашения, а мне какое‑то необыкновенное?
Да нет, на самом деле ничего такого: просто слово особый имеет здесь значение «отдельный». Так же могло употребляться и слово особенный. Одно дело особенный человек Рахметов, другое – детей посадили за особенный стол.
А вот и пример особого приглашения – только в данном случае не предназначенного отдельно для кого‑то, а исходящего отдельно от кого‑то:
Получив приглашение ехать в Киев от братьи – Владимира Мстиславича, Рюрика и Давыда Ростиславичей, также особое приглашение от киевлян и особое от черных клобуков, Мстислав отправил немедленно в Киев племянника Василька Ярополчича с своим тиуном
(С. М. Соловьев, «История России с древнейших времен»).
Другой характерный случай – выражение кровь с молоком. По тому, как его обычно произносят (с эмфазой на слове кровь, а часто с эдаким раскатистым ррр, да еще и энергично сжав кулак), слышно, что воспринимают это выражение сейчас в том смысле, что вот, мол, какой здоровый – прямо кровь у него пополам с молоком.
Да вот примеры, из которых это ясно видно: «А потому что детинка был кровь с молоком, да подбавил черт горилки» (А. Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ»), «Все пятеро – верзилы‑громобои, кровь с молоком и медом, растворенная водками и наливками» (В. Пикуль, «Фаворит»). Да и я тоже думала, что в выражении подразумевается кровь пополам с молоком, пока в диалектологической экспедиции в Архангельской области не услышала в том же значении выражение красно да бело. Я подумала, что ведь и кровь с молоком, наверное, значит «румянец на белой коже» – старинный идеал красоты. Действительно, в некоторых других европейских языках есть выражение как молоко и кровь. Вот характерный пример из повести современника Пушкина О. Сомова:
Внучка эта, маленькая Варя, спала всегда с старою Марфой, в особой светелке (тут весьма кстати и «особый» в значении «отдельный». – И. Л.). Вот когда Варе исполнилось семь лет, бабушка стала замечать диковинку невиданную: с вечера, бывало, уложит ребенка спать, как малютка умается, играя, с растрепанными волосами, с запыленным лицом; поутру старуха посмотрит – лицо у Вари чистехонько, бело и румяно, как кровь с молоком, волосы причесаны и приглажены.
Любопытно и то, как поменялась внутренняя форма выражения в интересном положении. Сейчас это воспринимается как указание на беременность, как пикантное положение, повод для общего внимания и пересудов. Изначально же имелось в виду прибыльное положение. Это значение было заимствовано у исходного французского прилагательного: affaire intéressante – выгодное дело; acheter à un prix intéressant – купить по сходной цене. Такое значение сохранилось у формы русского множественного числа интересы («это не в моих интересах»), у слова заинтересованность и др., а в просторечии и у самих слов интересный, интересно. Рабочие, торгуясь, говорят: «Нам это будет неинтересно» – невыгодно, значит. Мой коллега А. Д. Шмелев обратил внимание на то, что разные люди противоположным образом понимают выражение играть на интерес: половина считает, что оно значит «играть на деньги», а другая – что без денег, ради самого азарта игры.
Откуда есть‑пошла русская душа?
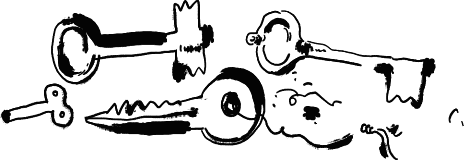
Как часто мы слышим и читаем о «широкой русской душе», об «истинно русской бесшабашности», о том, что мы по‑ прежнему надеемся на русский «авось» и тому подобное. Власть таких стереотипов поразительна. Мне особенно запомнилось, как телеведущая Анэля Меркулова в одном интервью определила русский характер: «Мы можем завидовать, делать гадости, поджигать, грабить, убивать друг друга, но в горе объединиться, вместе опуститься вниз и подняться до невероятных высот» (МК, 12.10.95). Вот спрашивается, если мы убиваем друг друга, то это не горе? И куда еще ниже можно вместе спуститься? А поубивав и ограбив друг друга, до каких зияющих высот мы должны подняться?
Разумеется, многие люди воспринимают высказывания о национальном характере примерно так же, как описания, скажем, козерогов в гороскопах, или как рассуждения о том, что брюнетки темпераментные, блондинки глупые и т. п. Тем не менее, национальные стереотипы тиражируются массовой культурой, воспроизводятся в анекдотах и т. п. А политики и рекламщики зачастую сознательно пытаются их обыгрывать.
Кажется, что этот облик русского человека – удалого, широкого и душевного, склонного к безудержному веселью и загулу, переходящему в тоску, существовал искони. Его черты закреплены в языке, в частности в отдельных словах. О таких словах мы с соавторами написали в книжке «Ключевые идеи русской языковой картины мира» (Зализняк А. А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д., 2005). Некоторые русские слова – например, душа, судьба, тоска, счастье, разлука, справедливость, обида, попрек, собираться, добираться, постараться, сложилось, довелось, заодно мы называем «ключевыми» словами русской языковой картины мира, потому что они дают ключ к ее пониманию. Они лингвоспецифичны, так как содержат в своем значении концептуальные конфигурации, отсутствующие в готовом виде в других языках (в книжке проводится сравнение с наиболее распространенными языками Западной Европы). Направление исследований, представленное в книге, в значительной степени восходит к идеям Анны Вежбицкой.
Так что же, «русская душа» – это и вправду наследие далеких предков? Между тем само представление о нации как некой коллективной личности, обладающей, подобно отдельному человеку, своим особым характером, появляется в культуре достаточно поздно – во второй половине XVIII в., в философии Гердера, с одной стороны, и Руссо (сочетание национальный характер впервые встречается у него) и других идеологов французской революции – с другой. Так, И. Г. Гердер, немецкий писатель‑просветитель, философ и собиратель народной поэзии, создал теорию народной поэзии как выражения духовной жизни и «нравов» народа. В 1773 при участии Гете был опубликован целый сборник «О немецком характере и искусстве», где Гердер опубликовал «Отрывок из переписки об Оссиане и песнях древних народов», ставший литературным манифестом «Бури и натиска». Между прочим, это сейчас нам кажется вполне естественным интерес к фольклору, никто не возмущается, даже когда диссертации пишутся о таких его «низких» жанрах, как анекдоты. А ведь когда‑то вообще не было идеи, что собирание и изучение народных песен для чего‑то нужно и что в них что‑то там отражается. Идеи Гердера были в России весьма популярны, особенно в кружке Н. М. Карамзина. Гердер писал и о славянах, так что русские гердерианцы свой народ, вероятно, воспринимали отчасти сквозь призму высказываний Гердера. В конце XVIII – начале XIX вв. концепция нации как целостной личности, единство которой основано на кровном родстве и закреплено общностью обычаев и языка, продолжала активно развиваться в немецкой философии, например у Ф. Шлегеля. А об увлечении немецкой романтической философией в России что и говорить.
Популярные в Европе идеи в то время попадали в Россию практически немедленно и интенсивно обсуждались. Уже в 1783 г. Д. И. Фонвизин на страницах «Собеседника любителей российского слова» задает Екатерине II вопрос: «В чем состоит наш национальный характер?» – Ответ: «В остром и скором понятии всего, в образцовом послушании и в корени всех добродетелей, от творца человеку данных». Ответ этот свидетельствует скорее об отсутствии в тот момент устойчивого культурного стереотипа. Однако работа над его созданием продолжалась.
Одним из первых текстов этого рода является, по‑видимому, следующий фрагмент из «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (1790 г.):
Лошади меня мчат; извощик мой затянул песню по обыкновению заунывную. Кто знает голоса руских народных песен, тот признается, что есть в них нечто скорбь душевную означающее. <…> Посмотри на рускаго человека; найдеш его задумчива. Если захочет разогнать скуку, или как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак. В веселии своем порывист, отважен, сварлив. Если что либо случиться не по нем, то скоро начинает спор или битву. – Бурлак идущей в кабак повеся голову и возвращающейся обагренной кровью от оплеух, многое может решить доселе гадательное в Истории Российской.
Нельзя не заметить, что сам образ русского человека, нарисованный Радищевым, очень близок к представлению, бытующему и теперь. Но с современной точки зрения этот текст выглядит как обратный перевод с какого‑то иностранного языка. Дело в том, что в современном русском языке все эти смыслы устойчиво выражаются другими словами: тоска, удаль, загул и т. д. Так это было уже в языке Пушкина: хрестоматийное четверостишье из стихотворения «Зимняя дорога» (1826 г.) по содержанию поразительно похоже на приведенное рассуждение Радищева: «Что‑то слышится родное / В долгих песнях ямщика: / То разгулье удалое, / То сердечная тоска…»
Пожалуй, можно сказать, что весь круг соответствующих стереотипов был сформулирован уже в программной статье Н. Надеждина «Европеизм и народность, в отношении к русской словесности», опубликованной в 1836 г. в «Телескопе», и дожил до сегодняшнего дня практически без изменений. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть, например, в многочисленные сочинения Н. Бердяева о русской душе, или в «Заметки о русском» Д. С. Лихачева. Надеждин, в частности, писал:
Да и что такое Европа – Европа? Наше отечество, по своей беспредельной обширности, простирающейся чрез целые три части света, наше отечество имеет полное право быть особенною, самобытною, самостоятельною частью вселенной. Ему ли считать для себя честью быть примкнутым к Европе, к этой частичке земли, которой не достанет на иную из его губерний?
Как тут не вспомнить хрестоматийное равняется четырем Франциям!
Нам в каком‑то смысле повезло. В отличие от многих европейских языков, интенсивное формирование современного литературного русского языка замечательным образом хронологически совпало с формированием национального самосознания. Отсюда две важных особенности русской культурно‑языковой ситуации. Во‑первых, стереотипы «национального характера» выражены в русском языке особенно ярко: ведь они складывались в период, когда язык, обычно весьма консервативный, был пластичен и готов к закреплению новых смыслов. Во‑вторых, русской культуре и до сих пор свойственна повышенная языковая рефлексия и представление о непереводимости русских слов и понятий. Изучение истории труднопереводимых русских слов показывает, что они напитывались культурной спецификой в основном на протяжении XIX века.
Итак, культурный миф русского национального характера начал складываться в конце XVIII в., а лексическое оформление для него было найдено несколько позже, но к 30‑м годам XIX в. оно уже было вполне устойчивым. Далее этот культурный стереотип был существенно обогащен во второй половине XIX в., и ключевую роль сыграли здесь тексты Достоевского. Чего стоит одно слово надрыв (в психологическом смысле), которое тоже вовсе не «из глубины веков», а из романа «Братья Карамазовы». Между прочим, если раньше переводчики романа ограничивались примечаниями по поводу этого слова, автор нового немецкого перевода и вовсе оставила слово nadryv как есть, пояснив: если уж слово перестройка не переводится, то о надрыве что и говорить.
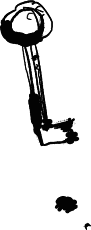
«Достоевский надрыв»

У Льва Лосева есть стихотворение, в котором он перечисляет постылые приметы безумной русской жизни. Среди прочего там говорится: И еще он сказал, распаляясь: / «Не люблю этих пьяных ночей, / Покаянную искренность пьяниц, / Достоевский надрыв стукачей, / Эту водочку, эти грибочки…»
Слово надрыв принадлежит к числу наиболее емких, выразительных, укорененных в русской культуре и потому плохо поддающихся переводу. В этом слове, помимо идеи напряжения всех сил, есть и некое мазохистское самолюбование, и истерическая исповедальность.
Вероятно, душевный надрыв связан с представлением о надрывном, нутряном кашле и с пониманием надрыва как прорехи. Внешняя оболочка расползается, сквозь прореху зияет нутро, и окружающие смущенно отводят глаза.
Слово надрыв описывает неконтролируемый эмоциональный выплеск и/или выражение форсированных, искусственных эмоций. В первом случае человек просто извлекает на свет слишком глубоко запрятанные, интимные чувства, с пугающей откровенностью обнажая то, чему надлежит оставаться сокровенным. Во втором – человек так успешно предается самокопанию, что может найти в своей душе то, чего в ней вовсе или почти нет. Поэтому с надрывом часто выражаются мнимые, непомерно преувеличенные или искаженные чувства, что граничит либо с фальшью, либо с гротеском.
Лев Лосев, говоря о достоевском надрыве, прав не только в том отношении, что пьяная исповедь стукача – это именно то, что очень естественно назвать достоевщиной, но еще и в том, что само слово надрыв – достоевское слово, из «Братьев Карамазовых» (одна из частей романа так и называется «Надрывы»).
Герои все время твердят: «Надрыв, надрыв», особенно когда обсуждают вымученную, надуманную, истерически‑ жертвенную страсть Катерины Ивановны к Мите Карамазову. Появление у позднего Достоевского, на закате эпохи так называемого шестидесятничества, понятия надрыва весьма знаменательно. Слово найдено – и слово, звучащее отнюдь не апологетически. Обобщив и отрефлектировав симптоматику надрыва, Достоевский в некотором смысле вывел одну из фундаментальных категорий поведения и мышления русского разночинца.
Одной из ценностей дворянской культуры, отвергнутой разночинцами, было то, что можно назвать внешним лоском, или хорошими манерами, или comme il faut, или светскостью, или дендизмом, а отсутствие оного – вульгарностью или дурным тоном. Толстой в «Юности» выразительно описал мироощущение юного дворянина, для которого лучше умереть, чем оказаться не comme il faut. Разночинцы увидели в этом поверхностность и фальшь и противопоставили условностям, канону культ искренности и глубины. Особенностью разночинской поведенческой модели стала гремучая смесь безудержной откровенности с романтической патетикой и тягой к «безднам», столь знакомая тому, кто когда‑либо читал письма Белинского Бакунину, дневники Чернышевского или другие документы внутренней жизни людей этого социально‑психологического типа.
Возвращаясь к теме кашля, вспомним и чахотку – разночинскую болезнь. Чахоточный надрывный кашель – как нельзя более подходящее обрамление для «кашля души» – надрывных признаний в «стыдной» и «гадкой» правде о себе.
Яркой чертой культивируемой разночинцами эстетики надрыва явилось демонстративное пьянство. Конечно, пили и дворяне. Но теперь на смену гусарскому кутежу и пьяному буйству в духе Дениса Давыдова пришел пьяный надрыв и пьяный кураж. Как известно, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке: алкогольное опьянение – замечательная мотивировка отказа от сдержанности в выражении своих чувств. Этот отказ становился фактом культуры, омут алкоголизма – синонимом душевной глубины.
Никогда уже больше такой тип поведения не имел столь высокого культурного статуса. Очень скоро он выродился в пародию на себя, однако до сих пор сохраняет по старой памяти претензию на духовные искания. Этот русский дискурс замечательно воспроизвел Вен. Ерофеев: «А потом кричу: „Ты хоть душу‑то любишь во мне? Душу – любишь?“ А он все трясется и чернеет: „Сердцем, – орет, – сердцем – да, сердцем люблю твою душу, но душою – нет, не люблю!“» XX век сообщил слову надрыв новую интонацию. В нем появилось эстетическое измерение. Для Достоевского надрыв был еще интересен и эстетически привлекателен, хотя и чреват неправдой. Сейчас он обычно оценивается как безвкусица. «Вы любите Андреева?» – «Нет, – с характерной для него афористичностью формулирует свою позицию Довлатов. – Он пышный и с надрывом».
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 576; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!