
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Теоретические посылки 2 страница
|
|
|
|
В-третьих: этот царь и законодатель, “с своей точки зрения”, природы — мыслится одноглазым как циклоп, ибо второй глаз, соперничая с первым, нарушает единственность, а следовательно, — абсолютность точки зрения, и тем самым изобличает обманность перспективной картины. В сущности, весь мир относится не к созерцающему художнику даже, а только к его правому глазу, да к тому же представленному единственною своею точкою — оптическим центром. Этот-то центр законодательствует мирозданием.
В-четвертых: вышеозначенный законодатель мыслится навеки и неразрывно прикованным к своему престолу: если он сойдет с этого абсолютизированного места или даже пошевельнется на нем, то сейчас же разрушается все единство перспективных построений и вся перспективность рассыпается. Иначе говоря, смотрящий глаз есть, в этом понимании, не орган живого существа, живущего в мире и трудящегося, а стеклянная чечевица камер-обскуры.
В-пятых: весь мир мыслится совершенно недвижным и вполне неизменным. Ни истории, ни роста, ни измерений, ни движений, ни биографии, ни развития драматического действия, ни игры эмоции в мире, подлежащем перспективному изображению, быть не может и не должно. Иначе — опять-таки распадается перспективное единство картины. Это — мир мертвый, или охваченный вечным сном, — неизменно одна и та же оцепенелая картина в своей замороженной недвижимости.
В-шестых: исключаются все психофизиологические процессы акта зрения. Глаз глядит недвижно и бесстрастно, наподобие оптической чечевицы. Он сам не шелохнется, — не может, не имеет права шелохнуться, вопреки основному условию зрения — активности, активного воспостроения действительности в зрении, как деятельности живого существа. Кроме того, это глядение не сопровождается ни воспоминаниями, ни духовными усилиями, ни распознаванием. Это — процесс внешне-механический, в крайнем случае физико-химический, но отнюдь не то, что называется зрением. Весь психический момент зрения, и даже физиологический, решительно отсутствует.
И вот, если соблюдены означенные шесть условий, то тогда и только тогда возможно то соответствие кожных точек мира и точек изображения, которое хочет дать перспективная картина. Если же не соблюдено в полной мере хотя бы одно из вышеперечисленных шести условий, то этот вид соответствия становится невозможен, и перспектива тогда неизбежно будет в большей или меньшей степени разрушена. Картина приближается к перспективности постольку и в той мере, поскольку и в какой мере соблюдаются вышеозначенные условия. А если они не соблюдены хотя бы частично, если допускается законность хотя бы местного их нарушения, то тем самым и перспективность перестает быть безусловным требованием, висящим на художнике, и становится лишь приблизительным приемом передачи действительности, одним наряду со многими другими, причем степень применения его и место применения на данном произведении определяется специальными задачами данного произведения и данного его места, но отнюдь не вообще для всякого произведения, как такового, и во всех отношениях.
Но допустим временно: условия перспективности удовлетворены всецело, а следовательно — и в произведении осуществлено в точности перспективное единство. Образ мира, данный при таких условиях, походил бы на фотографический снимок, мгновенно запечатлевший данное соотношение светочувствительной пластинки объектива и действительности. Отвлекаясь от вопроса о свойствах самого пространства и о психофизических процессах зрения, мы можем сказать, что в отношении к действительному созерцанию действительной жизни этот мгновенный снимок есть дифференциал, и притом дифференциал высшего, по меньшей мере, второго порядка. Чтобы по нему получить подлинную картину мира, необходимо несколькократно интегрировать его, по переменному времени, от которого зависят и изменения самой действительности, и процессы созерцания, и по другим переменным, — изменчивой апперцептивной массе и т.д. Однако если бы и это все было сделано, то тем не менее полученный интегральный образ не совпал бы с истинно-художественным вследствие несоответствия подразумеваемого в нем понимания пространства с пространством художественного произведения, организуемых как самозамкнутое, целостное единство.
Нетрудно узнать в таком художнике-перспективисте олицетворение пассивной и обреченной на всяческую пассивность мысли, мгновенно, словно украдкой, воровски подглядывающей мир в скважину субъективных граней, безжизненной и неподвижной, неспособной охватить движение и притязающей на божескую безусловность именно своего места и своего мгновения выглядывания. Это — наблюдатель, который от себя ничего не вносит в мир, даже не может синтезировать разрозненные впечатления свои, который, не приходя с миром в живое соприкосновение и не живя в нем, не сознает и своей собственной реальности, хотя и мнит себя, в своем горделивом уединении от мира, последней инстанцией и по этому своему воровскому опыту конструирует всю действительность, всю ее, под предлогом объективности, втискивая в наблюденный ее же дифференциал. Так именно возникает на возрожденческой почве мировоззрение Леонардо — Декарта — Канта; так же возникает и изобразительный художественный эквивалент этого мировоззрения — перспектива. Художественные символы должны быть здесь перспективны потому, что это есть такой способ объединить все представления о мире, при которой мир понимается как единая, нерасторжимая и непроницаемая сеть канто-эвклидовских отношений, имеющих средоточие в Я созерцателя мира, но так, чтобы это Я было само бездейственным и зеркальным, неким мнимым фокусом мира. Иными словами, перспективность есть прием, с необходимостью вытекающий из такого мировоззрения, в котором истинною основою полуреальных вещей-представлений признается некоторая субъективность, сама лишенная реальности. Перспективность есть выражение меонизма и имперсонализма. Это-то направление мысли обычно и называется натурализмом и гуманизмом, — то, что возникло с концом средневекового реализма и теоцентризма.
XV
Но, спрашивается, в какой мере возможно сомневаться в основательности перечисленных выше шести предпосылок перспективности, т.е. в самом ли деле перспективное изображение, хотя и одно из многих отвлеченно-возможных способов изображать мир, есть на деле единственное, по жизненному наличию выставленных условий его возможности? Иначе говоря, жизненно ли возрожденское, кантовское миропонимание? Если бы оказалось, что условия перспективности в действительном опыте нарушаются, то тем самым и жизненная значимость этого понимания была бы опровергнута.
Итак, рассмотрим шаг за шагом выставленные нами условия.
Во-первых: по вопросу о пространстве мира должно сказать, что в самом понятии пространства различаются три, далеко не тождественные между собою, слоя. Это именно: пространство абстрактное или геометрическое, пространство физическое и пространство физиологическое, причем в этом последнем, своим чередом, различаются пространство зрительное, пространство осязательное, пространство слуховое, пространство обонятельное, пространство вкусовое, пространство общего органического чувства и т.д., с их дальнейшими более тонкими подразделениями. По каждому из намеченных делений пространства, крупных и дробных, можно, отвлеченно говоря, мыслить весьма различно. Воображать, будто целая серия чрезвычайно сложных вопросов может быть отведена простою ссылкою на геометрическое учение о подобии фигур в трехмерном эвклидовском пространстве — значило бы даже не прикоснуться к трудностям поставленной проблемы. Прежде всего, должно быть отмечено, что по разным пунктам выставленного вопроса о пространстве ответы, весьма естественно, выходят весьма различные. Отвлеченно-геометрически, пространство эвклидовское есть лишь частный случай различных, весьма разнообразных, пространств, со свойствами самыми неожиданными в элементарном преподавании геометрии, но непосредственному отношению к миру объясняющими многое. Геометрия Эвклида есть одна из бесчисленных геометрий, и сказать, что физическое пространство, пространство физических процессов, есть пространство именно эвклидовское — мы оснований не имеем. Это — лишь постулат, требование так мыслить о мире и сообразовать с этим требованием все прочие представления. Требование же самое вытекает из предрешенной их веры в физико-математическое естествознание определенного склада, т.е. с принципом непрерывности, с абсолютным временем, с абсолютно твердыми телами и т.д.
Но допустим временно, что на самом деле физическое пространство удовлетворяет геометрии Эвклида. Отсюда еще ничего не следует, будто таковым же воспринимает его непосредственный наблюдатель мира. Как бы ни хотел думать о физическом пространстве живущий в нем, как бы он ни считал необходимым все прочие свои представления строить согласно основному — об эвклидовском сложении внешнего пространства, подводя физиологическое пространство под эвклидовскую схему, тем не менее физиологическое пространство в него не входит. Не говоря уже о пространствах обонятельном, вкусовом, термическом, слуховом и осязательном, которые не имеют ничего общего с пространством Эвклида, так что даже не подлежат обсуждению в этом смысле, нельзя миновать и того факта, что даже зрительное пространство, наименее далекое от эвклидовского, при внимании к нему оказывается глубоко от него отличным; а оно-то и лежит в основе живописи и графики, хотя в различных случаях оно может подчиняться и другим видам физиологического пространства, — и тогда картина будет зрительной транспозицией незрительных восприятий. “Если мы теперь спросим, что же, собственно, общего имеет физиологическое пространство с пространством геометрическим, мы найдем лишь очень мало общих черт, — говорит Мах. — И то и другое пространство есть многообразие трех измерений. Каждой точке геометрического пространства A, B, C, D? соответствуют A', B', C', D'? физиологического пространства. Если C лежит между B и D то и C' лежит между B' и D'. Можно также сказать так: непрерывному движению какой-нибудь точки в геометрическом пространстве соответствует непрерывное движение соответственной точки в пространстве физиологическом. Что эта непрерывность, принятая для удобства, вовсе не должна быть обязательно действительной непрерывностью ни для одного, ни для другого, мы доказывали уже в другом месте. Если и принять, что физиологическое пространство прирождено нам, оно обнаруживает слишком мало сходства с пространством геометрическим, чтобы в нем можно было усмотреть достаточную основу для развитой a priori геометрии (в смысле Канта). На основе его можно — самое большее — построить топологию”[50]. — “Если это несходство между физиологическим пространством и геометрическим не бросается в глаза людям, которые не занимаются специально такими исследованиями, если геометрическое пространство не кажется им чем-то чудовищным, какой-то фальсификацией пространства прирожденного, то это объясняется из ближайшего рассмотрения условий жизни и развития человека”[51]. — Но “даже при наибольшем своем приближении к пространству Эвклида, физиологическое пространство еще немало отличается от него. Различие правого и левого, переднего и заднего наивный человек легко преодолевает, но не так легко преодолевает он различия верха и низа, вследствие сопротивления, которое оказывает в этом отношении геотропизм”[52].
В другом сочинении тот же мыслитель набрасывает некоторые черты этого различия. “Уже не раз указывалось, как сильно отличается от геометрического пространства, от пространства Эвклида система наших пространственных ощущений, пространство, если так можно выразиться, физиологическое. [?] Геометрическое пространство повсюду и во всех направлениях одинаково; оно беспредельно и бесконечно (в смысле Римана). Зрительное же пространство предельно и конечно и даже, как это показывает созерцание приплюснутого “небесного свода”, имеет неравное во всех направлениях протяжение. Уменьшение размеров тел при удалении, а равно и увеличение их при приближении, сближают зрительное пространство скорее с некоторыми представлениями метагеометров, чем с пространством Эвклида. Разница между “верхом” и “низом”, “передом” и “задом” и — если быть точным — “правым” и “левым” существует как для осязаемого пространства, так и для зрительного. Для пространства же геометрического такой разницы нет”[53]. — Пространство физиологическое не однородно, не изотропно — это сказывается в различной оценке угловых расстояний, в различных расстояниях от горизонта, в различной оценке длин подразделенных и неподразделенных, в различной тонкости восприятия различными местами ретины и т.д. и т.д.[54]
Итак, можно и должно сомневаться, чтобы наш мир был в эвклидовском пространстве. Но если бы это сомнение и устранить, то тем не менее мы наверное не видим и вообще не воспринимаем эвклидо-кантовского мира, — мы о нем лишь рассуждаем по требованиям теории как о видимом. Между тем дело художника писать не отвлеченные трактаты, а картины, — т.е. изображать то, что он действительно видит. Видит же он, по самому устройству зрительного органа, отнюдь не кантовский мир и, следовательно, изображать должен нечто отнюдь не подчиняющееся законам эвклидовской геометрии.
Во-вторых: ни один человек, сущий в здравом уме, не считает свою точку зрения единственной и признает каждое место, каждую точку зрения за ценность, дающую особый аспект мира, не исключающий, а утверждающий другие аспекты. Одни точки зрения более содержательны и характерны, другие менее, притом каждая в своем отношении, но нет точки зрения абсолютной. Следовательно, художник старается посмотреть на изображаемый им предмет с разных точек зрения, обогащая свое созерцание новыми аспектами действительности и признавая их более или менее равно значительными.
В-третьих: имея второй глаз, т.е. имея сразу по меньшей мере две различных точки зрения, художник владеет постоянным коррективом иллюзионизма, ибо второй глаз всегда показывает, что перспективность есть обман, и притом обман неудавшийся. А кроме того, художник видит двумя глазами больше, чем мог бы видеть одним, и притом каждым глазом по-особому, так что в его сознании зрительный образ слагается синтетически, как бинокулярный, и во всяком случае есть психический синтез, но никак не может уподобляться монокулярной, одно-объективной фотографии на ретине. И не защитникам перспективы и сторонникам гельмгольцевской теории зрения ссылаться на незначительность разницы обеих картин, даваемых тем и другим глазом: этой разницы, по их же теории, как раз достаточно для ощущения глубины, и без нее эта последняя не сознавалась бы; следовательно, замечая разницу между изображениями в правом и левом глазу, они уничтожают причину, по которой пространство воспринимается трехмерным.
Впрочем, эта разница вовсе не так мала, как это могло бы показаться на первый взгляд. Для примера мною сделан расчет того случая, когда шар в 20 см поперечником рассматривается на расстоянии полуметра, причем расстояние между зрачками принято в 6 см. Тогда тот добавок экваториальной дуги шара, предполагая центр шара на уровне глаз, который невидим правому глазу, но видим левому, равен приблизительно одной трети дуги того же экватора, видимой правым глазом. При более близком рассматривании шара, отношение того, что видит левый глаз добавочно к видимому правым, будет еще более, нежели одна треть. Это величины, с которыми приходится иметь дело при обыкновенных условиях зрения, например, при рассматривании человеческого лица, и даже при самых малых степенях точности они не могут быть оцениваемы как величины, которыми можно было бы пренебречь.
Вообще же, если глазное расстояние обозначить чрез s, радиус рассматриваемого шара чрез r, а расстояние центра того шара до середины междуглазного расстояния чрез l, то отношение x добавочной экваториальной дуги, прибавляемой к такой же дуге правого глаза левым глазом, к дуге, видимой правым глазом, выражается достаточно точно равенством:
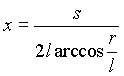
В-четвертых: художник, даже сидящий на месте, непрестанно двигается, двигает глазами, головою, корпусом, и его точка зрения непрестанно меняется. То, что должно называться зрительным художественным образом, — есть психический синтез бесконечно многих зрительных восприятий с разных точек зрения, и притом всякий раз двойных; это — интеграл таких двуединых образов. Мыслить о нем как о чисто физическом явлении — значит ничего не смыслить в процессах зрения и смешивать quadrata rotunds[7], — механическое с духовным. Еще и не приступал к теории зрения, тем более — художественного зрения, тот, кто не усвоил себе как аксиомы духовно-синтетической природы зрительных образов.
С другой стороны, в-пятых, вещи меняются, движутся, поворачиваются к зрителю разными сторонами, растут и уменьшаются, мир есть жизнь, а не оледенелая недвижность. И, следовательно, тут опять творческий дух художника должен синтезировать, образуя интегралы частных аспектов действительности, мгновенных ее разрезов по координате времени. Художник изображает не вещь, а жизнь вещи по своему впечатлению от нее. И потому, вообще говоря, большой предрассудок думать, будто созерцать должно в неподвижности и при неподвижности созерцаемой вещи. Ведь дело в том, какое именно восприятие вещи требуется изобразить в том или другом данном случае, — из щели в тюремной стене или с автомобиля. Сам же по себе ни один способ отношения к действительности не может быть загодя отвергнут. Восприятие определяется жизненным отношением к действительности, и если художник хочет изобразить то восприятие, которое получается, когда и он сам и вещи взаимно двигаются, то надо суммировать впечатления при движении. Между тем это именно есть наиболее обычное и наиболее жизненное восприятие действительности — походя, и оно-то именно дает наиболее глубокое познание действительности. Живописное выражение такого познания — естественная задача художника. Возможна ли она?
Мы знаем, что передается движение, хотя бы скачущей лошади, игра чувств на лице, развивающееся действие событий. Следовательно, нет оснований и то жизненное восприятие действительности признавать неизобразимым. Разница от более обычного случая — в том, что чаще изображают движущиеся предметы при сравнительно малой подвижности художника, тогда как тут и движение художника предполагается значительным, самая же действительность может быть и почти недвижной или даже совсем недвижной. Тогда получаются на изображениях дома о трех и о четырех фасадах, дополнительные поверхности головы и тому подобные явления, известные нам по древнему художеству. Такое изображение действительности будет соответствовать недвижной монументальности и онтологической массивности мира, при активности познающего духа, живущего и трудящегося в этих твердынях онтологии.
Дети не синтезируют и мгновенного образа человека, размещая глаза, нос, рот и пр. порознь, некоординированными на листе бумаги; художник-перспективист не умеет синтезировать ряды мгновенных впечатлений и некоординированно размещает их на разных страницах своего альбома. Но и то и другое свидетельствует лишь о неактивности мысли, расползающейся на элементарные впечатления и неспособной охватить единым актом созерцания, а следовательно, — и соответствующей ему единою формою, сколько-нибудь сложное восприятие, и кинематографически разлагающей его на мгновения и моменты. Однако есть случаи, когда такой синтез нельзя не произвести, и тогда самый рьяный перспективист отказывается тут от своих позиций. Вертящийся волчок, колесо пробегающего поезда или скользящего велосипеда, водопад или фонтан ни один натуралист-художник не остановит на своем изображении, но передаст суммарно восприятие от игры сливающихся и переходящих друг в друга впечатлений. Однако мгновенная фотография или зрение при освещении этих процессов электрической искрой покажет совсем другое, нежели чем изобразил художник, и тут обнаружится, что единичное впечатление останавливает процесс, дает его дифференциал, общее же восприятие эти дифференциалы интегрирует. Но если всякий согласится с законностью такой интеграции, то в чем же препятствие к применению чего-то равнозначащего и в иных случаях, когда скорость процесса несколько менее?
И наконец, в-шестых: защитники перспективы забывают, что зрение художественное есть весьма сложный психический процесс слияния психических элементов, сопровождаемый психическими обертонами: на воспострояемом в духе образе нарастают воспоминания, эмоциональные отклики на внутренние движения, и около пылинок данного чувственно кристаллизуется наличное психическое содержание личности художника. Этот сгусток растет и имеет свой ритм — последним и выражается отклик художника на изображаемую им действительность.
Чтобы видеть и рассмотреть предмет, а не только глядеть на него, необходимо последовательно переводить его изображение на ретине отдельными участками к чувствительному пятну ее. Это значит, зрительный образ вовсе не дан сознанию как нечто простое, без труда и усилия, но строится, слагается из последовательно подшиваемых друг к другу частей, причем каждая из них воспринимается, более или менее, со своей точки зрения. Далее, грань синтетически прибавляется к грани, особым актом психики, и вообще зрительный образ последовательно образуется, но не дается готовым. В восприятии зрительный образ не созерцается с одной точки зрения, но по существу зрения есть образ многоцентренной перспективы. Присоединяя сюда еще дополнительные поверхности, пристраиваемые к образу правого глаза — левым, мы должны признать сходство всякого зрительного образа с исконными палатами, и отныне спор может быть о мере и желательной степени этой разноцентренности, но уже не об ее принципиальном допущении. Далее начинается или требование еще большей подвижности глаза, ради усиленно сгущенной синтетичности, либо требование, по возможности, закрепления глаза, — когда ищется зрение разлагающее, причем перспектива стоит на пути этого зрительного анализа. Но человек, покуда жив, вполне вместиться в перспективную схему не может, и самый акт зрения с неподвижно-закрепленным глазом (– забываем о левом глазе –) психологически невозможен.
Скажут: “Но ведь нельзя, все же, видеть сразу трех стен у дома!” — Если бы это возражение и было правильно, то надо продолжить его и быть последовательным. Сразу нельзя видеть не только трех, но и двух стен дома, и даже одной. Сразу — мы видим только ничтожно малый кусочек стены, да и его не видим сразу, а сразу, буквально, — ничего не видим. Но не сразу — мы обязательно получаем образ дома о трех и о четырех стенах, таким дом себе представляем. В живом представлении происходит непрерывное струение, перетекание, изменение, борьба; оно непрерывно играет, искрится, пульсирует, но никогда не останавливается во внутреннем созерцании мертвою схемою вещи. И таким именно, с внутренним биением, лучением, игрою, живет в нашем представлении дом. Художник же должен и может изобразить свое представление дома, а вовсе не самый дом перенести на полотно. Эту жизнь своего представления, дома ли, или человеческого лица, схватывает он тем, что от разных частей представления берет наиболее яркое, наиболее выразительное, и вместо длящегося во времени психического фейерверка дает неподвижную мозаику отдельных, наиболее разительных его моментов. При созерцании же картины глаз зрителя, последовательно проходя по этим характерным чертам, воспроизводит в духе уже временно-длительный образ играющего и пульсирующего представления, но теперь более интенсивного и более сплоченного, нежели образ от самой вещи, ибо тут яркие разновременно наблюдаемые моменты даны в чистом виде, уже уплотненно, и не требуют затраты психических усилий на выплавку из них шлаков. Как по напетому валику фонографа, скользит острие яснейшего зрения вдоль линий и поверхностей картины с их зарубками, и в каждом месте ее у зрителя возбуждаются соответственные вибрации. Эти-то вибрации и составляют цель художественного произведения.
Вот примерный мысленный путь от предпосылок натурализма к перспективным особенностям иконописи. Может быть совсем иное, чем в натурализме, понимание искусства, исходящее из коренной заповеди о духовной самодеятельности; автору лично — ближе это последнее. Но на почве такого понимания — вопроса о перспективе вообще не подымается, и она остается столь же далекой от творческого сознания, как и прочие виды и приемы черчения. В настоящем же рассмотрении требовалось изнутри преодолеть ограниченность натурализма и показать, как fata volentem ducunt, nolentem trahunt[8] — к освобождению и духовности.
Примечания
· [1] Настоящая статья была написана в октябре месяце 1919 г. в качестве доклада Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, но по разным внешним обстоятельствам заслушана не в Комиссии, а в заседании Византийской секции М.И.Х.И.М (Московский Институт Историко-Художественных Изысканий и Музееведения при Российской Академии Истории Материальной Культуры Наркомпроса) 29 октября 1920 года. Прения по докладу очень затянулись; сколько помню, принимали в них участие: П.П. Муратов, Б.А. Куфтин, П.И. Романов, А.А. Сидоров, Н.А. Африканов, Н.М. Щокотов, М.И. Фабрикант и Н.Д. Ланге. Оживленность обсуждений еще раз подтвердила мне, что вопрос о пространстве есть один из первоосновных в искусстве и, скажу более, — в миропонимании вообще. Но этот вопрос, — пространство в изобразительном искусстве, — в настоящей статье не рассматривается и составляет предмет готовящихся к печати моих лекций по анализу перспективы, читанных в 1921-м и 1922-м годах в Московских Высших Художественных Мастерских, так называемом Худемасте, на печатно-графическом факультете; а в этой статье дается лишь некоторый конкретно-исторический подступ к понятию органической мысли о мире. Автор ничуть не собирается строить теорию обратной перспективы, но хочет лишь с достаточною энергией отметить факт органической мысли — в одной области. — В заключение этого послесловия мне хочется благодарно помянуть Александру Михайловну Бутягину, ныне покойную, записавшую некогда под мой диктант первую часть этой статьи.
· [2] Икона № 23/328, XV–XVI века; размер ее 32 см 25,5 см., в 1919 году расчищена. Вклад Никиты Дмитриевича Вельяминова по царевне инокине Ольге Борисовне в 1625 году. (См. «Опись икон Троице-Сергиевой Лавры», Сергиев Посад, 1920, издание Комиссии по охране Лавры, стр. 89–90).
· [3] Икона № 58/160, XVI века, размер 31,5 см 25,5 см, вклад Ивана Григорьевича Нагова в 1601 году (См. «Опись икон Троице-Сергиевой Лавры», Сергиев Посад, 1920, издание Комиссии по охране Лавры, стр. 102–103).
· [4] Есть, впрочем, взгляд, согласно которому изображение выступающих друг из-за друга воинов или коней, когда они движутся в одну линию, перпендикулярную к направлению движения, надлежит толковать как зачаток перспективы. Конечно, это есть некоторая проекция, типа военной, аксонометрической или в таком роде, проекция из бесконечно удаленного центра, и она имеет значение сама по себе, как таковая. Видеть в ней зачаток чего-то другого, т.е. недопонятую перспективу, это значит упускать из виду, что всякое изображение есть соответствие, и многие изображения суть проекции, но не перспективы, и столь же мало суть зачатки перспективы, как и обратной перспективы и многого другого, а перспектива, в свой черед, есть зачаток обратной и пр. Думается, у исследователей в таких случаях просто не хватает надлежащего внимания к математической стороне дела, потому все приемы — бесчисленные приемы — изобразительности делятся у них на правильные, перспективные, и неправильные, неперспективные. Между тем неперспективность вовсе не означает неправильности, — но в отношении именно египетских изображений требуется особое внимание, ибо там осязательные ощущения преобладали над зрительными. Каким соответствием точек изображаемого и изображения пользуются египтяне — это вопрос трудный и доселе не получивший себе удовлетворительного разрешения.
· [5] Moritz Cantor, Vorlesungen uber Geschichte der Mathematik, Bd. 1, 3-te Auflage, Lpz., 1907, S. 108.
· [6] Vitruvius Pollio, De architectura libri decem, VII, pret. 11.
· И то же сообщается в Жизни Эсхила (См.: Aeschyli Tragoediae ed. H. Weil, Lipsiae Teubneri, 1884, p. 310. — Ред.). Но, по указанию Аристотеля в Поэтике, 4, первым подавшим повод к скенографии, был Софокл («Руководство к измерению с помощью циркуля и линейки в линиях, плоскостях и целых телах, составленное Альбрехтом Дюрером и напечатанное на пользу всем любящим знания с надлежащими рисунками в 1525 году» (нем.). Трактат частично напечатан в кн.: А. Дюрер. Дневники. Письма. Трактаты. Т. II. Л. — М., «Искусство», 1957, с. 43–93. — Ред.). Впрочем, известия эти не расходятся, ибо нужно думать, что более Эсхила натуралистичный Софокл стал домогаться и более иллюзорных декораций.
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-05-29; Просмотров: 282; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!