
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Портретный жанр
|
|
|
|
 В портретном жанре был, помимо индивидуальных портретов и «типажных» («Разносчик», «Шарманщик» и т.д.), очень распространен групповой портрет членов различных военных и штатских корпораций – стрелковых рот, попечителей больниц и богаделен, цеховых старшин, ученых обществ. Корпоративный дух был ещё крепок у голландских бюргеров, и им нравилось фигурировать на картинах в качестве общественных, а не только частных лиц. Военные, разумеется, хотели видеть себя лихими и отважными, штатские – почетными хранителями общественного благолепия. На такие портреты был большой спрос, и писались они большей частью по указанному композиционному шаблону, довольно вялому, напоминая, по выражению одного голландского
В портретном жанре был, помимо индивидуальных портретов и «типажных» («Разносчик», «Шарманщик» и т.д.), очень распространен групповой портрет членов различных военных и штатских корпораций – стрелковых рот, попечителей больниц и богаделен, цеховых старшин, ученых обществ. Корпоративный дух был ещё крепок у голландских бюргеров, и им нравилось фигурировать на картинах в качестве общественных, а не только частных лиц. Военные, разумеется, хотели видеть себя лихими и отважными, штатские – почетными хранителями общественного благолепия. На такие портреты был большой спрос, и писались они большей частью по указанному композиционному шаблону, довольно вялому, напоминая, по выражению одного голландского


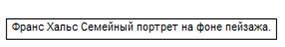
автора, раскрытую веером колоду карт с королями и валетами.
Никто из голландских портретистов, не считая, конечно, Рембрандта, не может быть поставлен вровень со старейшим из них – Франсом Халсом .
В раннем периоде своего творчества он больше всего писал групповые портреты офицеров, и этот скучновато-официальный жанр под его кистью совершенно преображался, из него исчезала всякая натянутость. Халс застигал портретируемых в разгар веселья, в разнообразных непринужденных позах, с вином, музыкой, сверканием голубых и оранжевых шаров. И в групповых и в индивидуальных портретах проявляются замечательные качества Халса. Во-первых, для него нет неинтересных лиц: он умеет видеть характерное, интересное даже в самом заурядном персонаже, в каком–нибудь забубенном гуляке, залихватском офицерике, в щеголе с заломленной шляпой, в грузном толстяке. Он смотрит на них не без тайной насмешки, но искренно, как художник наслаждается их колоритными физиономиями. Во-первых, Халс чудесно схватывает мгновенные состояния, избегая застылости. Он охотно изображает улыбку и смех, что вообще редко в портретной живописи, потому что смех мимолетен, а портретисты обычно передают состояния пребывающие, длительные. Халс дерзко разрушает эту традицию. У него задорная цыганочка улыбается и слегка подмигивает, мальчуган хохочет, полоумная старуха на кого-то кричит, нарядный коротыш покачивается на стуле, заложив ногу за ногу, - и все это до предела естественно, живо. Третье, что отличает Халса, - он, ловя летучие мгновения, пишет быстрыми, экспрессивными ударами кисти, ничего не заглаживая, никогда не зализывая. Его живописи присуще особое «брио», прелесть обнаженного артистического мазка.
Стоит посмотреть вблизи, как у него написаны, например,- белые воротники и брыжи, - капризный вихрь штрихов, клякс и зигзагов краски. На расстоянии эти кляксы и штрихи дают точное впечатление помятого кружева, причем «живого», почти шевелящегося.
В гарлемском музее Халса рядом с его портретами висят некоторые, тоже портретные, работы других его современников – добротные и посредственные. Они тщательны, зализаны и сухи. Нет ничего нагляднее такого сопоставления: сразу видишь разницу между истинной живописью – «писанием живого» и живописью робкой, ремесленной, умертвляющей живое. 
Халс, художник естественный, чувственный, покоряющий своим художественным темпераментом, но, кажется, не столь уж глубокий, становится потрясающим, леденящим душу, когда создает образы угасания – образы старости. Сильнейшая привязанность Халса к чувственной стороне бытия, видимо, имела своей обратной стороной ужас перед хладной страстью, перед 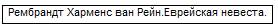
окостенением, умиранием заживо. Художники, глубоко чувствовавшие духовное в человеке, не раз создавали образы прекрасной старости – мудрой и возвышенной: мы находим их у Леонардо, Микеланджело, Эль Греко, наконец, у Рембрандта; а какие величавые старцы предстают в древнерусской живописи! Но Халс ничего доброго в старости не видит. Для него она – беспощадное обнажение низменного, что таится в людях, но что в пору зрелости искупается цветением сил, энергичной пульсацией жизни. Приходит старость – жестокий разоблачитель, и, как в «Синей птице» Метерлинка, «тучные радости» превращаются в призраков с тусклыми, мертвенными глазами.
Их мы видим на групповых портретах регентов и регентш приюта для престарелых. Эти два многофигурных портрета отталкивающих стариков и старух Халс написал, когда ему самому было уже восемьдесят четыре года, и этим мощным трагическим аккордом завершается его как будто бы столь жизнерадостное творчество.
Полный горечи и не находящий ответа вопрос, вечный вопрос Екклезиаста, самого пессимистичного из великих поэтов древности, звучит в прощальных произведениях Халса: зачем? К чему? К чему обманчивый мираж плотской жизни, если все кончается одинаково – вот этим?
Беспечный оптимизм «малых голландцев» тут бессилен. Но среди них жил величайший из великих художник, чье искусство способно восторжествовать над пессимизмом Екклезиаста, - Рембрандт.

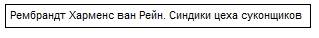
Рембрандт был моложе Халса, но старше Вермера, Терборха, Рейсдала – он родился в 1606 году, умер в 1669 году. Несколько нарушая хронологию, я говорю о нем в заключение образа голландского искусства, из которого можно видеть, что современники Рембрандта, и старшие и младшие, отнюдь не были художественными пигмеями, что общий уровень живописи был весьма высоким, что были в Голландии и подлинно великие мастера. И все же Рембрандт даже на их фоне представляется явлением необычайным, из ряда вон выходящим.
Кажется почти чудом, что бюргерская Голландия дала миру художника такой глубины и общечеловеческого масштаба. Не так удивительно, что из недр голландской школы вышли «глубокий во внешности» Вермер Делфтский и артистический, насмешливый Халс. Но Рембрандт?!.
Ведь Рембрандт даже никогда не выезжал из своей маленькой страны: он был сыном лейденского мельника, работал сначала в Лейдене, а потом до конца жизни в Амстердама. В отличие от деятелей итальянского Ренессанса он не был ни очень образованным, ни очень универсальным человеком. Ничем другим, кроме живописи и гравирования, не занимался. Не оставил записей о себе, о своем искусстве, не развивал никаких теорий – известно только несколько его скупных высказываний о том, что надо следовать природе. Все, что он мог сказать, он говорил языком живописи и только живописи. Но живопись его выходила за границы общепринятого, и его сограждане не могли распознать «глубокие, пленительные тайны», раскрывавшиеся под его кистью, - они были не по их мерке. Теперь гениальность Рембрандта – аксиома для всех. Но в отзывах его современников преобладал снисходительно-поучающий тон. Его, правда, хвалили за талант, но тут же порицали за пренебрежение к правилам и красоте. Критика Рембрандта его современниками часто напоминает басню «Осел и Соловей»: «жаль, что не знаком ты с нашим Петухом». «Как жаль для искусства, что такая хорошая кисть не служила более высоким целям, - писал некий Андриес Пельс. – Какие успехи сделал бы он в живописи! Но, ах, этот благородный талант так опустился!» как раз лучшее в нем оставалось непонятным: успехом пользовались его ранние вещи, где он ещё не вполне был самим собой, а его поздние шедевры не находили отклика. Судьба Рембрандта, - может быть, самое раннее, но и самое разительное свидетельство того, что истинному искусству не по пути с трезвой и приземленной буржуазность. Оно вытесняется из обихода, приходит в противоречие и конфликт не только с официальным фасадом государства, но и с той обывательской средой, которую буржуазный строй плодит и воспитывает.
И при всем этом Рембрандт не был изгоем своего времени: он больше, чем кто-либо, выражал его истинные жизненные силы, его мудрость и опыт. Эти жизненные точки, подобно подземным водам, струились в глубине, не на поверхности. Они оплодотворили искусство Рембрандта с его безбрежной человечностью, с его умением открыть великое в простом и скромном.
Рембрандт, по словам очевидцев, «вращался постоянно в кругу людей низкого звания». Это видно и по его картинам. Он любил суровые, усталые лица бедняков, любил писать согбенных старцев и старух, слепых и увечных. Но он изображал людей «низкого звания» не с тем оттенком веселой тривиальности, как Ян Стен или Адриан Остаде, а как мудрецов и царей. Бытового жанра Рембрандт чуждался. Если не считать портретов, сюжеты он черпал из мифологии, более всего из Библии: писал ветхозаветного Авраама, Самсона, Давида перед Саулом, святое семейство, блудного сына. Этим старинным легендам, столько раз уже служившим одеждами для самого различного содержания, суждено было пережить под кистью Рембрандта ещё одно преображение: стать эпосом человеческой души. Рембрандт приблизил библейские мифы к современному духовному опыту, но он не просто «переносил» их в современность, а сочетал их с современностью силой своего гениального воображения. В этом фантастическом сплаве он воплощал и утверждал непреходящие человеческие ценности. И это чувствуется не только в его библейских картинах, но и в портретах старого еврея в Эрмитаже: какая в нем бездонность терпеливой, мудрой, кроткой души, прожившей, кажется, не одну, а много жизней. Не этот ли старик приносил в жертву грозному богу своего сына Исаака, не он ли, изгнанный из родного края, скорбел и плакал на реках вавилонских? Души Рембрандта очень стары и вечно молоды: они пришли из глубины столетий и продолжают свое странствие дальше, по бесконечной траектории, уводящей в неведомое будущее.
Крепка вечная связь времен, и древний опыт прочно оседает в сердцах.
Красивого в академическом и обывательском смысле Рембрандт не признавал: ни гладкой миловидности лиц и фигур, ни благообразной плавности рисунка, ни «эмалевой» красочной поверхности. Канонам причесанной красоты он уже в ранних своих произведениях бросал вызов, противопоставляя им натуру как она есть; в этом он в общем следовал национальным традициям нидерландского искусства. По античному мифу, Ганимед – отрок, пленивший своей необычайной красотой Зевса; Зевс похитил его, превратившись в орла. А Рембрандт изобразил Ганимеда, которого тащит орел, отчаянно орущим, болтающим ногами некрасивым мальчишкой, - очень похоже на несносного капризного ребенка, с которым никак не могут сладить мать и бабушка (у Рембрандта есть такая зарисовка). Адам и Ева на офорте Рембрандта – неуклюжие, с головами, втянутыми в плечи; некоторым исследователям даже приходило на мысль – не предугадал ли художник интуитивно теорию эволюции, изобразив первых людей обезьяноподобными.
 Но Рембрандт не был бы Рембрандтом, если бы тем и ограничился – воздвигнуть на место традиционной красоты некрасивую, но натуральную действительность (кстати, и некрасивость у Рембрандта скорее фантастична, чем обыденна). Это ведь делали и многие другие; в конце концов, и почти все «малые голландцы» отходили от академического понимания «прекрасного».
Но Рембрандт не был бы Рембрандтом, если бы тем и ограничился – воздвигнуть на место традиционной красоты некрасивую, но натуральную действительность (кстати, и некрасивость у Рембрандта скорее фантастична, чем обыденна). Это ведь делали и многие другие; в конце концов, и почти все «малые голландцы» отходили от академического понимания «прекрасного».
Важнее то, что Рембрандт открывал в «грубой натуре» возвышенную красоту, где противоположность духовного и чувственного снимается, исчезает. Духовное и чувственное начала воссоединяются в просветленной человечности. К этому, главному, Рембрандт пришел не сразу.
Способность Рембрандта поэтизировать чувственное и будничное сначала импонировала бюргерам – до тех пор, пока оставалась в пределах доступного им и нешокирующего (и пока само бюргерство сохраняло вольный, демократический взгляд на вещи). Примерно до начала 40-х годов 
Рембрандт был самым популярным художником в Голландии. К его раннему творчеству понятие «барокко, - пожалуй, вполне подходит. В 30-х годах Рембрандт был молод, счастлив, полон энергии, деньги от заказов стекались к нему, он беспечно их тратил, собрал большую коллекцию произведений искусства и редкостей – восточных тканей и костюмов, старинного оружия, ковров, причудливой утвари, перстней, ожерелий, звериных шкур, морских растений и животных. К подобным экзотическим вещам Рембрандт всегда питал настоящую страсть. Он пользовался ими в живописи, как антуражем, создавая полусказочное окружение героям картин и утоляя свою любовь к живописности – к глубокому тону, мерцаниям, переливам, вспышкам, к «драгоценности» пастозной, шероховатой красочной фактуры.
Полную волю своему бурному художественному темпераменту молодой Рембрандт дает в портретах Саскии, своей жены. Эта юная женщина с задорным личиком, неправильность которого художник и не думал скрывать, становится под его кистью Флорой – богиней весны: он наряжает ее, украшает цветами, парчой, ожерельями, самую ее обыкновенность делает таинственно-обворожительной. Он пишет блещущий жизнерадостностью автопортрет с Саксией: хрупкая тоненькая, она сидит у него на коленях, а он, опьяненный счастьем, высоко поднимает бокал и, повернувшись к зрителям, доверчиво приглашает их полюбоваться тем, как он весел, каким сокровищем он владеет. Счастливый Рембрандт и счастливая Саския – одна из женщин, которым довелось быть музами великих художников. Они почти никогда не были красавицами – ни Саския, ни Джоконда, ни певица Забела – муза Врубеля, но бедным и плоским было бы без них наше представление о красоте и женственности.
Может быть, Саския позировала Рембрандту и для «Данаи» - картины, которая в 30-е годы предвосхищает глубину зрелого Рембрандта. Многочисленные нагие Данаи и Венеры на полотнах живописцев – от Тициана до Эдуарда Мане – всегда являют образ красоты женщины, более чувственный или более строгий. Но только Рембрандт увидел в «Данае» образ любви. У Бернини его закутанная с головы до ног «святая» Тереза – воплощение сладострастия. У Рембрандта обнаженная «языческая» Даная – воплощенная душевная человеческая любовь.
В 1642 году Саския умерла совсем молодой. И в том же году впервые обозначилась трещина в отношениях между Рембрандтом и его заказчиками. Он написал большой групповой портрет офицеров стрелковой роты (впоследствии неточно названный «Ночной дозор» - дело там происходит днем, а не ночью). Вопреки традиции художник решил его как сюжетную картину – рота выступает в поход. Только немногие фигуры на первом плане ярко освещены и видны целиком, остальные в тени, в движении, перемешаны с фигурами, не имеющими отношения к стрелкам: странная маленькая девочка с курицей, как персонаж из сказки, откуда-то затесалась в эту взволнованную группу. Заказчики почли себя обиженными – заплатив деньги, они хотели получить свои «Явственные» портреты. Они потребовали деньги обратно. С этого злосчастного года кривая успехов и благополучия Рембрандта резко пошла вниз, но его творчество так же стремительно набирало высоту. Рембрандт пережил почти всех, кто ему был близок и дорог: умер молодым его единственный сын Титус, умерла вторая жена Рембрандта, преданная Хендрикье Стоффельс. Свое состояние он потерял, и его драгоценная коллекция пошла в уплату за долги. Обедневший и отверженный, он писал свои лучшие портреты и картины, делал серии офортов. И самые лучшие – в последнее десятилетие жизни. В это время его кисть творит чудеса. Самое сильное, самое неповторимо «рембрандтовское» из средств его живописи – светотень. Не такая, как у Караваджо, не такая, как у художников барокко, - совсем особая. Сияние во мраке. Тепло и трепетно светятся лица и фрагменты одеяний, выступающие из глубокой, таинственной тени. Эта теневая среда, воздушная, пронизанная какими-то блуждающими огнями, отблесками, производит впечатление не только пространственной глубины времени. Темные фоны написаны жидко и прозрачно, а по мере того как зыбкая, мерцающая тьма переходит в свет, пространство сгущается в предметы и из марева прошлого выступает настоящее, - краски накладываются более пастозно, и наконец, на самые освещенные места Рембрандт наносит такие выпуклые сгустки красочного теста, которые обладают собственной предметностью и кажутся самосветящимися. на картине «Асур, Аман и Эсфирь» мантия Эсфири, корона асура написаны, так, что сами мазки краски словно переливаются в изменчивой игре, как настоящие драгоценные камни.
 Такого освещения, как у Рембрандта, в натуре не бывает. Рембрандт не просто подражает природе, но, идя от природы, создает новые структуры: его гений, постигая законы природного творчества, продолжает его по-своему, уже по законам человеческого духа.
Такого освещения, как у Рембрандта, в натуре не бывает. Рембрандт не просто подражает природе, но, идя от природы, создает новые структуры: его гений, постигая законы природного творчества, продолжает его по-своему, уже по законам человеческого духа.
Рембрандт неустанно подстерегал и ловил своей кистью и резцом многообразную, изменчивую, скрытую жизнь души. Его собственное лицо было для него целым миром, дарящим новые и новые открытия. Он создал множество автопортретов в живописи и еще больше – в офорте. Если смотреть из один за другим, возникает удивительное чувство: видно, что это один и тот же человек, и вместе с тем кажется, что это десятки людей. То он похож на беспечного халсовского кутилу, то на сдержанного и солидного бюргера, то одержим рефлексией Гамлета, то перед нами умный наблюдатель, у которого вся жизнь сосредоточена в провинциальном взоре. Он бывает и простоватым и мудрым, и неотесанным и элегантным, и любящим и холодным. Какое сложное существо человек!
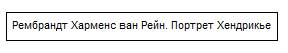
Но эту сложность Рембрандт понимает не как пестроту и смесь различных свойств (пестрота ведь тождественна безличности), а как богатство возможностей, таящихся в каждой индивидуальности. Одни проступают более явно, другие слабо мерцают, едва осознаваемые, но сама индивидуальность представляет нечто целостное, и люди интересуют Рембрандта постольку, поскольку в основе, сердцевине их сложной личности теплится духовный свет. В этом смысле можно сказать, что у Рембрандта нет «отрицательных героев», он ищет внутреннего оправдания человека: такова сверхзадача его искусства. Он по многу раз писал портреты своих близких. Свою Хендрикьё он, как и прежде Саскию, писал в различных воплощениях – и Вирсавией, и Марией, и просто Хендрикьё, писал ее и обнаженной, и в богатом, но скромном уборе, и в простом домашнем платье – всюду она немного другая, но всюду ее тихий облик излучает тепло женственности и самоотверженной доброты. В портретах сына, бледного темноглазого мальчика, а потом юноши, - особая хрупкость душевного состава; о таких говорят: он слишком хорошо, чтобы долго жить. Исполнен утонченный одухотворенности портрет Яна Сикса, поэта и богатого мецената, который был другом художника. Взор и рассеянный и сосредоточенный, обращенный вглубь, завороженный потоком дум – льющихся, сливающихся, не успевающих застыть в определенную мысль, определенную форму. И при этом Сикс неторопливо натягивает на руку перчатку. Этот машинальный жест обладает выразительностью контраста: сколько неоформленных образов и мыслей успевает промелькнуть в сознании человека за то время, пока он всего только надевает перчатку!
За несколько лет до смерти Рембрандт написал групповой портрет синдиков – старшин цеха суконщиков: едва ли не лучший групповой портрет в истории мировой живописи. Эти пять человек, сидящие за столом, причем председатель обращается к собранию, и шестой – слуга, стоящий несколько поодаль, не только обладают каждый своим характером, но в их характерах угадывается такая же неисчерпаемая глубина, как в портретах Сикса. Рембрандт до конца верен своим поискам истинно человеческого в человеке. Его не ожесточили личные горести, не озлобили оскорбления, которым он подвергался.
То, что делает в портретах Рембрандт, нельзя все же назвать привычным словом «психологический анализ» Аналитиком был Леонардо да Винчи; Рембрандт – нет. Он не анализирует, а постигает. Постигает целостно, как неразложимый оптический образ, как сочетание света и тени, синтез цвета и формы: это единственная реальность его идей. О каждом из его синдиков можно было бы, правда, написать целый роман… можно, но не нужно, потому что суть образов Рембрандта – полностью в сфере живописи, они непере водимы. Леонардо любил и умел говорить языком слов, Рембрандт не любил и не умел, так как язык света и цвета для него был для него универсальным. Все богатство содержания, которое он воплощал, не имеет бытия, отдельного от глубины тона, от его трепетности и «расплавленности», оно – в отношениях фигур к фону, в их выступаниях из темноты и погружениях в темноту, в красочных сгустках, в легких, вьющихся штрихах офорта, в бархатистых пятнах – во всей этой неописуемой музыке изобразительного искусства. А с другой стороны, мог ли Рембрандт создавать столь многозначительную музыку, если бы был «только живописцем» (как скажем, Вермер Делфтский), если бы он не жил глубочайшей и напряженной жизнью, которая ведь не имеет «собственного языка» и должна выбирать себе чувственный аналог, чтобы как-то выразиться? Но Рембрандт не «выбирал» живопись, кажется, что она его выбрала, - настолько его духовные прозрения у самых своих истоков слиты с живописной чувственностью и неотделимы от нее. И все же они остаются духовными, то есть чем-то большим, нежели «только живопись». Так же как, рождаясь из мрака, нетленно светят золотые рембрандтовские тона, как светят миру великодушие, сострадание, любовь. В них Рембрандт находил «оправдание» людям и высокий смысл жизни. Через много лет другой художник, обладавший обостренной душевной чуткостью, Ван Гог именно это почувствовал и оценил в полотнах Рембрандта. «Эта нежность во взгляде, какую мы видим в «Путешествии в Эммаус» или в «Еврейской невесте»… эта нежность, в которой таится боль, это полуоткрытое и бесконечное, сверхчеловеческое, которое, однако, в то же время кажется таким естественным…».
В жизни человеческого сердца бывают минуты, когда оно раскрывается навстречу добру, сбрасывая, как ветхую одежду, все суетное и ложное, что его заглушало. Такие минуты прозрения от душевной слепоты столь сокровенны, что даже искусство не всегда может их выразить, - может быть, музыке они более всего доступны. Они доступны Толстому и Достоевскому: вспомним встречи Наташи Ростовой с раненым Андреем Болконским или исповедь Версилова перед «подростком». Разоблачать темные тайники души способны многие, несравненно труднее вскрывать ее светлые тайники, и из живописцев Рембрандт едва ли не единственный, для кого это было сквозной темой всего творчества.
При созерцании его лучших картин нет необходимости знать библейские сюжеты, положенные в основу, - то, что он изображает, понятно без слов и вечно. Он пишет старого, страшного царя Саула, который плачет, слушая игру на арфе Давида, проникающую ему в сердце, как целебный нож. Он пишет «Асура, Амана и Эсфирь» - трое людей по виду спокойно сидят за одним столом, а между трех людях обвинительницу, обвиняемого и судью, но вершится не простой суд, а высший суд совести; Аман осужден не Эсфирью и не Асуром, а голосом истины, слова которой тихо и твердо, не поднимая глаз, произносит женщина, и она эхом звучат потрясенной душе Амана.
И, наконец, Рембрандт пишет «Блудного сына». Порочный и изнемогший, в рубище, с бритым затылком каторжника, скиталец безмолвно припал к груди старого, слепого отца, который ждал его долгие годы и верил, он вернется. И он вернулся. В молчании созерцают встречу отца и сына несколько чуть виднеющихся в тени людей.
Примерно в эти же – последние – годы Рембрандт создал самый поразительный и завершающий автопортрет, ныне находящийся в Кельне. Он выглядит на нем очень старым – много старше своих шестидесяти лет. Голова замотана странным тюрбаном, лицо морщинистое, как кора старого дерева, но на этом старческом лице – гримаса смеха. Рембрандт смеется. Любимый им золотой таинственный свет озаряет улыбку, язвительную и торжествующую над бедностью, старостью, утратами, близость смерти. Судьба не сумела отнять у него главный, бесценный дар – прозорливое творчество; он перехитрил судьбу и сеется на ней и у гробового входа.
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 959; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!