
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Либерализм 1 страница
|
|
|
|
План
Начала ХХI века
Лекция
Тема: Русская драматургия ІІ половины 80-х годов ХХ века –
1. Особенности развития постперестроечной драматургии: жанры, темы
2. Новые герои постперестроечной драматургии (пьесы А.Галина, Н.Коляды)
3. Основные векторы развития драмы 90-х годов (О.Михайлова, М.Угаров, А.Шипенко, Н.Садур)
4. Актуальные проблемы русской драматургии конца ХХ - начала ХХI в.
Литература
1. Беседы о театре // Октябрь. – 2006. – № 5.
2. Болотян И. О драме в современном театре: verbatim // Вопросы литературы. – 2004. – №5
3. Бондаренко М. Текущий литературный процесс как объект литературоведения // НЛО. – 2003. – № 62.
4. Гончарова-Грабовская С.Я. Комедия в русской драматургии 1980-1990 годов (жанровая динамика и типология). – Мн.: БГУ, 1999. – 224 с.
5. Громова М.И. Русская драматургия конца ХХ – начала ХХI века: Уч.пос. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 368 с.
6. Журчева О. В. Формы выражения авторского сознания в русской драме ХХ века: Автореф. дис. … докт. филол. наук / Самар. гос. ун-т. – Самара, 2007.
7. Журчева О.В. Жанровые и стилевые тенденции в драматургии ХХ века: Учебное пособие. Самара: Изд-во СамГПУ, 2001. – 184 с
8. Забалуев В. Вербатим – матрица реальности // Завтра. – 2005. – № 41 (621). 12 октября.
9. Забалуев В., Зензинов А. VERBATIM // Октябрь. – 2005. – № 10.
10. Заславский Г. «Бумажная» драматургия: авангард, арьергард или андеграунд современного театра? // Знамя. – 1999. – № 9.
11. Злобина А. Драма драматургии. В пяти явлениях, с прологом, интермедией и эпилогом // Новый мир. – 1998. – № 3.
12. Кислова Л.С. “Жизнь на обочине”: героиня новой женской драматургии Урала в поисках гендерной идентичности // Литература Урала: история и современность: Сб. статей. Вып. 2. Материалы Всерос. науч. конф. “Литература Урала: проблема региональной идентичности и развитие художественной традиции”, Екатеринбург, 5-7 окт. 2006. – Екатеринбург: УрО РАН; Издат. дом “Союз писателей”, 2006. – С. 354-359.
13. Лейдерман Н.Я. Драматургия Николая Коляды. – Екатеринбург, 2002.
14. Липовецкий М. Театр насилия в обществе спектакля: философские фарсы Владимира и Олега Пресняковых // Неприкосновенный запас. – 2005. – № 2-3 (40-41)
15. Липовецкий М.Н. Русский постмодернизм (Очерки исторической поэтики): Монография / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1997. – 317 с.
16. Московкина Е. “Новая драма”: изменения мизансцены // НЛО. – 2007. – № 85.
17. О технике вербатим // http://teatrdoc.ru/verbatim.php
18. Родионов А. «Вербатим» – реальный диалог на подмостках // Отечественные записки. – 2002. – № 4–5. – С. 346–347.
19. Скоропанова И.В. Русская постмодернистская литература. – М., 1999.
20. Фатеева Н.А. Новая постмодернистская драма (заметки по теме) // Драма и театр: Сб. науч. тр. – Тверь: Твер.гос.ун-т, 2002. – Вып. III. – С. 147-157.
1. С началом перестройки в стране театр, а вместе с ним и драматургия, вступили в сложный период развития. Это было связано прежде всего с тем, что лидирующие позиции в сфере читательских и зрительских интересов прочно захватила публицистика. С ней не могли конкурировать ни собственно художественная литература, ни театр. Особое место заняли периодика и телевидение, которые буквально обрушили на публику лавину сведений, документов, а затем и их интерпретаций, до той поры недоступных обществу.
В подобной ситуации драматург мог занять одну из двух противоположных позиций. С одной стороны, велик был соблазн влиться в общий информационно-публицистический ноток и попытаться «догнать и перегнать» журналистику. С другой стороны, благоразумнее было остановиться, попытаться осмыслить произошедшее и только затем выступить со своим сформировавшимся, взвешенным суждением, облеченным в достойную художественную форму.
Эйфории от самой возможности говорить о ранее неизвестных или замалчиваемых сторонах жизни общества поддались многие авторы. Прежде всего это привело к заметному оживлению жанра политической драмы. Своеобразное продолжение получила «производственная» драма 1970-х гг. Драматурги Л. Мишарин («Серебряная свадьба», 1987), И.Дозорцев («Последний посетитель», 1987), Р.Солнцев («Статья»,1986). Л.Буравский («Говори!», 1986), Л.Зорин («Цитата», 1986) вновь заговорили о наболевших проблемах, касающихся уже отживших командно-административных методов управления, о необходимости личной инициативы и наконец-то обозначившейся свободе выбора. Однако вскоре стало очевидно, что злободневность и публицистичность на театральной сцене уже не столь впечатляют, как 10– 15 лет назад, и что потенциал «производственной» драмы оказался исчерпанным.
Другой популярной темой политической драмы стала тема тоталитаризма, подавления личности в условиях сталинской системы. В пьесах М.Шатрова этих лет – «Диктатура совести» (1986) и «Дальше... дальше... дальше...» (1985), как и в опубликованном в 1987г. «Брестском мире» (1962), – образу полновластного и единоличного диктатора Сталина противопоставлялся образ мудрого, дальновидного и справедливого «демократа» Ленина. Стоит ли говорить, что шатровские произведения потеряли свою актуальность, как только обществу были открыты новые факты о личности и характере деятельности «вождя мирового пролетариата». Миф об идеальном Ильиче рухнул, а вместе с ним прекратилось и «мифотворчество» драматурга Шатрова.
Если М.Шатров работал над сталинской темой в рамках традиционного, реалистического театра, то вскоре появились пьесы, где была сделана попытка (безусловно, спорная и не всегда убедительная) представить мифологизированные советской идеологией фигуры в пародийном, гротесковом виде. Так, в 1989г. скандальную известность получила «наратрагедия» в стихах В. Коркия «Черный человек, или Я, бедный Сосо Джугашвили», поставленная в Студенческом театре МГУ.
Когда к читателю хлынул целый поток мемуарной литературы о лагерном опыте тех, кому выпала жестокая судьба на себе испытать давление тоталитарной системы, на подмостки театров тоже вышли трагические герои эпохи ГУЛАГа. Большим и вполне заслуженным успехом пользовалась инсценировка повести Евгении. Гинзбург «Крутой маршрут» на сцене театра «Современник». Оказались востребованы перестроечным и пост-перестроечным временем пьесы десяти-двадцатилетней давности, за редким исключением в традиционной художественно-документальной форме осмыслявшие лагерный опыт: «Республика труда» А. Солженицына, «Колыма» И. Дворецкого, «Анна Ивановна» В. Шаламова, «Тройка» Ю. Эдлиса, «Четыре допроса» А. Ставицкого. Выстоять, остаться человеком в нечеловеческих условиях лагеря – вот основной смысл существования героев этих произведений. Определение психологических механизмов, управляющих личностью, – их главная тема.
В конце 1980-х гг. были сделаны попытки построить на том же материале иные эстетические системы, перевести конфликт личности и тоталитарного общества в более широкий, общечеловеческий план, как это было в романах-антиутопиях Е.Замятина или Д. Оруэлла. Такой драматургической антиутопией можно считать пьесу А. Казанцева «Великий Будда, помоги им!» (1988). Действие произведения происходит в «образцовой Коммуне имени Великих Идей», господствующий здесь режим отмечен особенной жестокостью к проявлению всякого инакомыслия, человеческая личность низведена до примитивного существа с первобытными инстинктами и единственным сильным эмоциональным проявлением – животным страхом.
В духе абсурдистского театра пытался представить тот же конфликт личности и государства В. Войнович в пьесе «Трибунал» (1984, опубликована в 1989). Попытку создать советский вариант театра абсурда в данном случае нельзя считать вполне удачной, явно ощутима здесь вторичность, прежде всего – влияние «Процесса» Ф. Кафки. Да и сама советская действительность была настолько абсурдна, что попытка еще раз «перевернуть» многострадальный мир, превратить его в сплошную судебную процедуру над живым человеком нельзя считать художественно убедительной.
Безусловно, и в данном случае тема совсем не закрыта, поскольку новая и новейшая российская действительность всегда давали богатую почву для художественных открытий, связанных с проблемой взаимоотношений личности и государства.
2. Возможность свободно говорить о ранее запретных темах, социальных и нравственных проблемах общества в перестроечный период привела к тому, что отечественную сцену заполонили прежде всего всевозможные персонажи «дна»: проститутки и наркоманы, бомжи и уголовники всех мастей. Одни авторы своих героев романтизировали, другие по мере сил старались раскрыть перед читателем и зрителем их израненные души, третьи претен 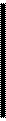 довали на изображение «жизненной правды» во всей ее неприкрытой наготе. Явными лидерами театральных сезонов 1987-1989 гг. стали именно такие произведения: «Звезды на утреннем небе» Л. Галина, «Свалка» Л. Дударева, «Женский стол в охотничьем зале» и «Ночные забавы» В. Мережко, «Спортивные сцены 1981 года» и «Декамерон» Э. Радзинского.
довали на изображение «жизненной правды» во всей ее неприкрытой наготе. Явными лидерами театральных сезонов 1987-1989 гг. стали именно такие произведения: «Звезды на утреннем небе» Л. Галина, «Свалка» Л. Дударева, «Женский стол в охотничьем зале» и «Ночные забавы» В. Мережко, «Спортивные сцены 1981 года» и «Декамерон» Э. Радзинского.
Из названных выше драматургов А. Галин был первым, кто вывел на театральные сцены всей страны новых «героинь» времени, правда, уже тогда, когда тема проституции стала привычной в газетной и журнальной публицистике. К моменту появления «Звезд па утреннем небе» имя драматурга было достаточно известно. «Свое многолетнее победное шествие по сценам нашей страны и за рубежом, – пишет театральный критик И. Паслинина, – А. Галин начал с пьесы «Ретро». (...) Пусть не в каждой из своих пьес он докапывается до подлинных причин того или иного жизненного явления, но всегда очень точно находит современную болевую, конфликтную и уже в силу этого интересную ситуацию. Подчас не очень занятый социальной подоплекой женской судьбы, ее непростой зависимостью от общего политического и экономического климата страны, он зато непременно сочувствует женщине, проявляя к ней посильные интерес, внимание, доброту».
Особенно справедливы эти слова по отношению к пьесе «Звезды на утреннем небе». Прочитав галинское произведение, читатель сразу понимает, что драматург занял позицию добросовестного адвоката своих героинь. Проституция есть данность нашей действительности, но обвинять в этом автор склонен кого угодно, только не самих проституток. Вот ханжеское и лицемерное общество, стыдливо спрятавшее «ночных бабочек» на 101-й километр, дабы не омрачать образцового пейзажа олимпийской Москвы. Вот инфантильные или, напротив, по-звериному жестокие мужчины, утратившие к женщине всякое уважение. А вот и сами несчастные женщины – и что ни судьба, то «вечная Сонечка Мармеладова, покуда мир стоит». Только, в отличие от героини Достоевского, здесь никто себя не казнит, более того, даже не задумывается о том, что, быть может, в какой-то момент каждая из них совершила ошибку, что все же была возможность выбора. И соответственно ни одна из четырех главных героинь не ищет достойного выхода из своего нынешнего положения. Не предлагает его и драматург, хотя намеренно подчеркивает библейские ассоциации в судьбе Марии, пожалуй, главной «страдалицы» на страницах пьесы. Христианские мотивы появляются в «Звездах на утреннем небе» все-таки напрасно, ибо сама рассказанная драматургом история, несколько театральный, надуманный сюжет во многом не дотягивают до заоблачных библейских высот.
Все более безоглядное погружение отечественной драматургии в проблемы «дна», цинизм и жестокость обыденности питали и творчество одного из самых популярных драматургов 1990-х гг. Николая Коляды. Причины такой популярности понять легко: Н. Коляда привнес в уже привычную бытовую драму бурную сентиментальность и сугубо театральную яркость. Пьесы этого драматурга привлекают театры ясностью, прозрачностью смысла, подробностями прорисовки персонажей, однозначностью этической оценки, эмоциональностью драматического повествования. Он отбирает из явлений реальности наиболее яркие, выигрышные с театральной точки зрения, способные заинтересовать зрителя и, как правило, придает им трагическое или комическое звучание. Во всех его пьесах есть лирическая партия автора, звучащая в ремарках (они в пьесах Н. Коляды весьма пространны) или специально написанных авторских монологах. Образы-символы, используемые им в ряде пьес, служат для связи реального и театрального в художественном мире произведения.
Если проследить эволюцию творчества этого драматурга, то можно отметить, что его стиль изменялся от фактографического изображения конфликтных столкновений отвратительного, безобразного в реальной жизни с возвышенным и прекрасным в мечтах героев («Рогатка», 1989, «Чайка спела... (Безнадега)», 1989, «Мурлин Мурло», 1989, «Канотье», 1992) к изображению не конфликтов, а «странных» типажей и характеров, включенных в некий похожий на реальность мир, созданный автором на основе жизненных впечатлений и развивающийся по воле автора («Полонез Огиньского», 1993, «Нюня», 1993, «Персидская сирень», 1995, «Попугай и веники», 1997, «Уйди-уйди», 1998).
С точки зрения драматургической техники Н. Коляда сразу проявил свое умение грамотно строить сюжет и композицию пьесы. Прослеживая логику событий, он находит пружину их развития в отношениях героев, в их скрытых потребностях, и сюжет приобретает энергию и остроту. В ранних пьесах исходным составляющим бычно является покинутость и одиночество героя. Но вот в провинциальном городишке с его монотонным и полунищим существованием вдруг появляется Некто Прекрасный, заезжий гость, нарушающий своим приходом скучное, привычное течение жизни. Своим приходом он рождает в убогих местных обитателях надежду на лучшую жизнь, на любовь, взаимопонимание, очищение. Финал истории бывает разным, но чаще все-таки безнадежным: это может быть смерть самого героя («Рогатка», «Сказка о мертвой царевне»), крах иллюзий и надежд героя («Канотье») или экстраординарное явление (так в финале пьесы «Мурлин Мурло» происходит землетрясение).
Во второй половине 1990-х гг. внимание драматурга явно переключается на углубление в мир героя, на перипетии бытовых отношений н возможности игры словами и речевыми жанрами при создании диалогов. Эмоциональное выражение тревги автора за судьбы героев заменяется экспрессией шуток и балаганного юмора драматургических зарисовок. «Персидская сирень», «По-пугай и веники», «Дураков по росту строят», «Уйди-уйди» могут быть интересны для актеров как пьесы игровые, содержащие много наблюдений за уличной речью и экзотикой употребляющихся в ней выражений, но они уже не обладают той непосредственной эмоциональностью, которая была свойственна более ранним пьесам Н. Коляды.
3. Состояние драматургии последнего десятилетия XX в. определить довольно сложно. В данном случае можно вести речь не о сложившихся направлениях и школах, а лишь о наметившихся тенденциях в развитии отечественной драмы. Проблема состоит и в том, что сейчас ведущие театры весьма неохотно обращаются к современной драматургии, предпочитая делать ставку на проверенные временем классические произведения или зарубежные драматургические шлягеры. Однако несколько общих направлений в развитии драмы выделить можно.
*Первое из них, безусловно, связано с осмыслением опыта зарубежной драматургии XX в., которая долгое время оставалась недоступной широкому читателю и зрителю. После снятия идеологических запретов отечественные авторы с увлечением стали осваивать самый разнообразный художественный опыт: и «театр абсурда» (Э. Ионеско, С. Беккет, С. Мрожек, Л. Адамов), и «театр жестокости» А. Арго, и хеппининги в духе американского и европейского поп-арта 1950-х гг. Не были забыты и традиции русского театрального авангарда 1920-х гг.; футуристическая драма (В. Маяковский, А. Крученых, В. Хлебников) и театр обэриутов (Д. Хармс, А. Введенский).
В произведениях Н. Садур («Чудная баба», «Ехай!»), Вен. Ерофеева («Вальпургиева ночь, или Шаги командора»), А. Шипенко («Смерть Вап-Халена», «Археология»), Д. Липскерова («Школа для эмигрантов», «Семья уродов»), А. Буравского («Учитель русского языка») и других можно обнаружить многие характерные приемы абсурдистского театра: нарушение принципа детерминизма, алогичность, бессюжетность, трансформацию хронотопа, некоммуникабельность, отчужденность персонажей. К сожалению, следует признать, что часто подобные эксперименты современных драматургов так и остаются более или менее прилежными ученическими опытами, им редко удается сказать новое слово в эстетике «антитеатра».
Исключение составляют немногие произведения, и среди них – единственная незаконченная пьеса Вен. Ерофеева, автора знаменитой поэмы «Москва – Петушки». В пьесе факты реальности переосмыслены. Автор создает умозрительную модель общественных отношений, в которых все регламентировано, и выражает свое абсолютное неприятие этих отношений.
Главный герой «Вальпургиевой ночи...» пациент психиатрической больницы Лев Гуревич – прямой наследник многострадального Венички. Очевидно и стилевое единство этих двух произведений: как и Веничка, Лев Гуревич ведет на протяжении пьесы своеобразный словесный поединок с окружающей действительностью, где сочетаются изощренная высококультурная речь и вызывающе грубая, низкая лексика. Исследователи уже неоднократно отмечали этот любимейший стилевой прием Вен. Ерофеева: смешение различных языковых пластов, поэтического и низменного, серьезного и шутовского.
«... Мир трудно сказать... Такое странное чувство, – пытается передать свое состояние главный герой. – Ни-во-что-не-по-груженность... ничем-не-взволнованность... ни-к-кому-не-распо  ложенность... И как будто бы оккупирован; и оккупирован-то по делу, в соответствии с договором О взаимопомощи и тесной дружбе, но все равно оккупирован... и такая... ничем-вроде-бы-не-потревожещюсть, и ни-па-чем-не-насынтость... Короче, ощущаешь себя внутри благодати – и все-таки совсем не там... ну... как во чреве мачехи...»
ложенность... И как будто бы оккупирован; и оккупирован-то по делу, в соответствии с договором О взаимопомощи и тесной дружбе, но все равно оккупирован... и такая... ничем-вроде-бы-не-потревожещюсть, и ни-па-чем-не-насынтость... Короче, ощущаешь себя внутри благодати – и все-таки совсем не там... ну... как во чреве мачехи...»
Типично постмодернистская «перевернутая ситуация: в противовес медперсонала по поводу всенародного праздника 1-го Мая пациенты решают устроить шабаш в «ночь Вальпургии, сестры святого Венедикта». Это дает возможность Венедикту Ерофееву создать игровую театральную атмосферу «в пределах третьей палаты». Как и полагается шабашу, он заканчивается жертвоприношением – смертью, и фарс оборачивается трагедией.
Второе. Безусловно самобытен и художественный мир драматургии Нины Садур, который питают гоголевская и булгаковская традиции, то же смелое сочетание мистического и реального, символического и бытового, лирического и гротескового. Карнавальная «перевернутость» в большей мере характерна для двух первых пьес Н. Садур «Чудная баба» к «Ехай!» (1982). Однако пародируются драматургом не общественные или социальные нормы; карнавальное начало связано здесь прежде всего с поэтизацией древнего мифологического мироощущения, которое автор противопоставляет со временному рационализму.
Всплеск интереса к произведениям Н. Садур произошел в 1987 г., когда сразу в нескольких столичных театрах были поставлены пьесы «Чудная баба», «Ехай!», «Панночка». Передавая свои первые впечатления от прочитанных произведений Н. Садур, театральный критик Л. Иняхин писал: «Вначале было изумление. Пьеса «Поле» (первая часть «Чудной бабы»), прочитанная в «Театральной жизни», поразила воображение. Мучительная, жестокая и едкая сила, формировавшая текст, завораживала, невесело кружила голову и бередила душу... И всего-то случилось: горожанка, служащая какого-то КБ, присланная с группой товарищей в помощь совхозникам убирать картошку, заблудилась в чистом поле и встретила бабу, явно «тронутую», с которой в силу обстоятельств вынуждена общаться. Но вместо удовольствия от полукомедийного жанрового диалога, на который настраиваешься, возникает изматывающее чувство падения в бездну, словно во сне, когда летишь куда-то – медленно, долго и неотвратимо. Иллюзия кошмарного сна парализует сознание, формируя «косоглазую» реальность со своей дикой логикой». И сразу вспоминается гоголевский «Вий».
Н. Садур тоже рассказывает свои странные истории «почти в такой же простоте», как слышала, и этот рассказ сохраняет житейскую достоверность деталей, но одновременно наполняется каким-то неуловимым, «потусторонним» смыслом. Поэтому появление ее «Панночки» было вполне естественным. Перед нами не просто инсценировка, а самостоятельное художественное произведение, своеобразная лирико-философская фантазия на гоголевские темы. Следуя мудрому совету Ф.М. Достоевского, который считал, что инсценировать прозу можно, только вычленив из первоисточника какую-нибудь идею и написав на ее основе нечто новое, Н. Садур видит гоголевский мир прежде всего одаренным светом любви – «ведьмовской», грешной, испепеляющей. Поэтому испытание Хомы Брута здесь – открытие мироздания и полноты жизни через любовь, а это и дорога сквозь адский страх, и вознесение в запредельные выси, и земной, плотский соблазн. Знаменитый полет Хомы Брута у Н. Садур – это восторженный монолог бурсацкого философа, тихая песнь сердца, которому доступно вдруг стало созерцание вечного, глубинного смысла жизни.
И финал встречи Хомы Брута с Панночкой здесь иной, не гоголевский: над рассыпавшейся в прах церковью, где три ночи читал философ молитвы по грешной душе, возносится единственно уцелевший лик младенца Иисуса, сияющий и прекрасный, ибо любовь всегда есть восхождение к абсолюту.
Свой духовный взлет совершают и герои упоминавшейся выше маленькой дилогии «Ехай!» и «Чудная баба». Сквозь вымороченность, оцепенение и бездуховность окружающего рвется Лидия Петровна («Чудная баба») понять мир и себя в этом мире. И ей, как и многим персонажам Н. Садур, помогает в этом познании героиня «чудная», «ненормальная», «не от мира сего». Эта баба по имени Убиенько и уводит Лидию Петровну в «перевернутый» мир фантомов, миражей, может быть, умерших. Совершая какой-то свой, ей одной понятный ритуал, Баба обмывает, а потом баюкает и детской кроватке невесть откуда взявшегося младенца, неспешно доказательно внушая героине, что мир давно исчез, перестал быть, и люди все как есть искусственные. И вот уже в финале Лидия Петровна, пристально вглядываясь в «группу товарищей» – сослуживцев, отказывается признать их подлинность.
«Сложные гротесковые построения Н. Садур в этой «маленькой дилогии», – отмечает А. Иняхин, – выводят зрителя к порогу неведомого театра – ритмически жесткого и сумбурного, логичного и непредсказуемо парадоксального, пристально анализирующего механизмы всяческой бездуховности. Драматург говорит об этом отважно и горестно, озорно и сурово». В каждой пьесе Н. Садур открывает перед нами особый мир, рожденный в соответствии с конкретной творческой целью драматурга. Карнавализация в «Чудной бабе» соседствует с полуреальным-полуфантастическим изображением людей в пьесах «Заря взойдет» (1983) и «Уличенная ласточка» (1986), где автор использует многозначность символа, чтобы раскрыть многообразие видимого мира и сложность отношений в нем. Но неизменно идеал автора связан с высоким представлением о душе человека, которая способна стать отражением космической гармонии.
В 1984г. пьесой «Наблюдатель» дебютировал в драматургии А. Шипенко, вслед за первой пьесой последовали «Дама с камелиями, или Когда мы войдем в город» (1985), «Смерть Ван-Халена» (1989), «Археология» (1990), «Из жизни камикадзе» (1992) и другие. В одном из немногих интервью драматург парадоксально определил свои творческие установки; «Я не знаю, что такое пьеса. Я не знаю, что такое драматург. Я не знаю, что такое театр. Я вообще много чего не знаю. И это не поза, это факт. С этой точки зрения я нахожусь в перманентном кризисе, но только находясь в кризисе, я могу сочинять свои истории и быть свободным от него».
Третье. Даже если не поверить автору и признать, что это все-таки поза, она тем не менее весьма показательна для современной драматургии. Пьесы А. Шипенко действительно написаны будто вопреки законам драмы (и в этом прямая связь его эстетики с законами театра абсурда): перед нами вольные драматическиеимпровизации, созданные по своим, неведомым остальному миру законам, со свободной композицией, полные обширных монологов или коротких диалогов, произносимых бездействующими людьми, иногда с вовсе отсутствующим внятным финалом «Идентификация музыканта в двенадцати эпизодах» – так А. Шипенко определил жанр пьесы «Смерть Ван Халена». Идентифицируется с известным гитаристом и композитором простой московский парень Коля, лежа на раскладушке в убогой коммуналке и общаясь с Эдди Ван Халеном по телефону. Причем, то, что телефон давно отключен за неуплату, общению никак не препятствует; напротив, Коля обнаруживает полное совпадение своих взглядов не только на музыку, но и вообще на жизнь с суждениями своего кумира.
В конце концов процесс идентификации завершается появлением Ван Халена на пороге Колиной коммуналки, Коля же, в свою очередь, оказывается в далеком Нью-Йорке. Ошибочным было бы считать, что пьеса А. Шипенко написана о рок-музыке или рок-музыкантах; фигура Ван Халена, выбранная в данном случае для «идентификации», сама по себе не имеет принципиального значения, драматург выводит размышления своих героев на гораздо более обобщенный уровень: почему судьбе не свести вместе двух незнакомых людей и не вглядеться пристальнее, такие ли уж они чужие? Не случайно в финале пьесы, когда герои встречаются в последний раз, Коля рассказывает Ван Халену любимый эпизод из фильма «Мертвый сезон»: «А в конце фильма его обменивают. На другого разведчика, иностранного. Они засыпались оба, каждый в той стране, где разведывал. И вот эти страны обменять их решили. А дело на каком-то шоссе происходит – машины подъезжают, они выходят и идут, навстречу... И когда встречаются на полосе на этой, на нейтральной, или как это там, – улыбаются. А потом расходятся. А может, и не улыбаются они вовсе – просто мне так показалось, захотелось так...» В этом Колином монологе – и сюжет, и композиция, и особое, неуловимое, импровизационное настроение этой нетрадиционной пьесы А. Шипенко.
Четвертое. После публицистического стремления как можно более жестко и вызывающе обнажить все общественные язвы и социальные пороки, характерных для перестроечного и постперестроечного времени, в современной драматургии отчетливо обозначилась прямо противоположная тенденция. Вместо намеренно антиэстетичных подробностей современной жизни – стремление к изящно выстроенным, поэтичным картинам и образам прошлых эпох; вместо жестко определенного, четкого взгляда на мир – призрачная неуловимость очертаний и настроений, легкая импрессионистичность; вместо безнадежных и беспросветных финалов – светлая печаль и философское отношение к неизбежному «бегу времени»; вместо нарочито грубого языка – классически чистое русское слово.
Подобные красивые ретро-пьесы создаются многими не так давно заявившими о себе драматургами: М. Угаровым (Правописание по Гроту», 1992; «Газета «Русский инвалидъ» за 18 июля...», 1993; «Зеленые щеки апреля», 1995), А. Хрякова («С болваном», 1996; «Поцелуй», 1998), Е. Греминой («Колесо фортуны», 1990; «За зеркалом», 1994; «Сахалинская жена», 1996), О. Мухиной («Таня-Таня», 1995; «Ю»,1997) и некоторыми другими. Большинство из них очень непросто в середине 1990-х гг. находили дорогу к читателю и зрителю, далеко не все, перечисленные произведения оказались востребованы современным театром. С течением времени, конечно же, произойдет неизбежный отбор того, что действительно останется в истории драматургии, сейчас же можно говорить лишь о некоторых общих впечатлениях и особенностях новой, современной драматургии.
В пьесах Михаила Угарова предпринята попытка передать современные сюжеты па языке других культур. Он использует мифологические образы в романтической шуточной драме «Кухня ведьм», знаки и символы православной культуры в пьесе «Голуби», язык культуры рубежа Х1Х-ХХ вв. звучит в «Правописании по Гроту» и «Газете «Русский инвалидъ» за 18 июля...», несколько символических систем переплетаются в фарсово-буффонадной опере «Зеленые щеки апреля».
В пьесе «Голуби» три главных героя – молодые монахи Варлаам и Федор, а также церковный певчий Гриша, обитающие в келье монастыря. Читатель становится свидетелем не просто их греховности, но шире – бездны человеческих страстей в сложном взаимодействии с традиционными ценностями православной культуры.
Динамика действия подчиняется раскрытию противоречий, терзающих души героев, но вместе с тем в их репликах, в их отношении к действиям и словам друг друга звучит голос заблудшего, но не потерявшего веру человека. Хотя пьеса насыщена загадочными, алогичными, необъяснимыми событиями, создающими ощущение хаоса в чувствах и поступках персонажей, высокие идеалы духовности православия остаются для автора определяющими истинный смысл пьесы.
Однако думается, что с особенным удовольствием М. Угаров уводит своих героев из современного суетного мира в идиллическую атмосферу XIX или начала XX в., в «тихую, хорошую жизнь, где есть машинка для папирос, а на заварочном чайнике – теплый колпак», где «так все хорошо, где такая хорошая, теплая, пеленая жизнь». Как и герой его пьесы «Газета «Русский инвалидъ» за 18 июля...», Иван Павлович, который «ненавидит повести с сюжетом, «нувеллы» и слово «вдруг», сам автор тоже предпочитает охранять своих персонажей от роковых искушений и резких переломов в судьбе, ему куда милее спокойное, бессобытийное течение жизни среди обаятельных мелочей быта:
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-06-30; Просмотров: 508; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!