
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Наука несостоявшихся знаний
|
|
|
|
Прямо скажем, социологи не перегрузили свою дисциплину философскими открытиями, как и философы далеки от практики эмпирического поиска социального смысла событий.
С конца 50-х и до последней четверти 80-х гг. социология в СССР официально считалась философской дисциплиной. Даже научные степени социологам присуждались по разделу философии. Казалось бы, от подобного союза должны выиграть обе науки. Но, увы, философия в формировании социологического знания сыграла далеко не лучшую роль. Изначально философия — критик старого и дизайнер нового. Но здесь она выполняла функцию рутинизации знаний: эмпирические находки социолог просто каталогизировал в соответствии с теми понятиями и категориями, которые существовали в историческом материализме. Постепенно институционализировалась и набирала силы превращенная форма отображения действительности.
В 60-е гг. советская социология делала первые шаги под неусыпным наблюдением своего престарелого «дядюшки» — исторического материализма. «Хрущевская оттепель» лишь приоткрыла железный занавес, отечественные философы приобрели смелость в суждениях, но ровно настолько, насколько это не грозило поколебать сложившиеся философские догмы. Еще в 30-е гг. догматический марксизм целиком растворил диалектику Маркса в болоте обыденных представлений, которые вполне способен был освоить вчерашний выходец из рабочих, а ныне «красный профессор». Революционный пафос марксизма, каким он был в своих первоистоках, выхолощен и сведен к откровенному лубку. Исторически сталинизм возник — и другим он быть не мог — как оппортунизм, т.е. философия оправдания существующего, далеко не идеального положения дел. «Все разумное — действительно, и все действительное — разумно». Не за эту ли фразу «красные профессора» окрестили гегельянство «алгеброй революции» в тот момент, когда ни о чем революционном и ни о чем разумном и речи быть не могло? Активный диалог и научная полемика — непременнейшие условия диалектики и демократии (именно так было в античности) — подменились идеологической травлей и сведением личных счетов.
В методологии существует понятие «наука устоявшихся знаний». Оно обозначает совокупность обоснованного, максимально истинного и строго-

|
го знания. «Это как бы твердое ядро науки, выступающее неким достоверным пластом знания, который выделяется по ходу прогресса науки»15. Быть может, подобную функцию выполнял исторический материализм? «Наука устоявшихся знаний» играет роль стабилизатора, она кристаллизует то, что выпадает в осадок с «переднего края науки», придает вероятностному и гипотетическому знанию статус достоверного и обоснованного. Отсюда и роль предпосылочного, базисного знания, регулирующего и корректирующего познавательные акты. Когда советская социология совершала свои первые шаги, никто не сомневался в том, что исторический материализм окажет ей помощь, став предпосылочным знанием. Видимо, из такой уверенности и родилась позднее формула: исторический материализм представляет собой общесоциологическую теорию и методологическую основу конкретных исследований. Но вот незадача: твердое ядро науки — обязательно результат прогрессивного движения знания. Однако приращения знания в 30—50-е гг. не было, движение напоминало больше топтание на месте, если не движение вспять.
Источником нового знания служит «наука переднего края» — приращение знания, разработка гипотез, их опытная проверка и концептуальное обоснование. «Наука переднего края» — движение вперед методом проб и ошибок, выбор теоретических альтернатив и проверка их истинности. Она самый гипотетический и «недостоверный» сегмент науки. Чтобы у «твердого ядра» науки появился выбор, ее «передний край» должен численно превосходить «ядро», но в 30—50-е гг., как уже говорилось, такого не наблюдалось: все исследования проводились в пределах «твердого ядра». Ученые занимались шлифовкой канонизированных положений, детализацией сложившейся парадигмы и популяризацией готового знания. Фактически «переднего края» в нормальном понимании слова тогда не существовало. Сформировалась порочная структура — «свернутая» пирамида знания. Ее возникновение объясняется отчасти отсутствием эмпирических социологических исследований вплоть до начала 60-х гг., отчасти — гипертрофированием функции запрета в истмате. В нормальной науке «твердое ядро» выполняет функцию фильтра: устраняет ошибки, отсеивая экстравагантности. В сокровищницу знаний допускаются лишь те гипотезы и теории, которые лучше всего согласуются с базисным, т.е. уже проверенным, знанием.
Конечно, истмат тоже отсеивал все, что не согласуется с базисными утверждениями, но какими? Под базисным понималось не учение Маркса, а его вульгарный двойник. Экстравагантности и отклонения как научный факт попросту не возникали. Поэтому подвергать рациональному анализу было
Ильин В.В. К вопросу о критериях научности знания // Вопросы философии. 1986. № 11. С. 68.
нечего, а регулярно проводимая критика «буржуазной» идеологии выполняла профилактическую, а не селективную функцию, упреждая любой альтернативный подход. Не имея возможности заявить свою теоретическую позицию вслух, философы вынуждены были маскировать ее под существующую парадигму, подкрепив цитатами из классиков. Может, это и есть прирост нового знания? Пожалуй, нет. Это скорее способ расшатывания парадигмы изнутри. Происходило более чем странное: не стремление доказать новизну результатов, а попытка выдать новое за старое. «Подпольная», или «кухонная», социология, на словах защищая положения истмата, на деле разрушала его. Приспосабливая старую парадигму к изменяющейся реальности, замаскированные инновации не проясняли кризиса оснований, который давно уже переживала существующая парадигма, — они лишь продлевали ее жизнь, консервируя самые уродливые, патологические черты.
В условиях, когда «наука активного поиска» и «наука устоявшихся представлений» сплющиваются, появляются непредсказуемые следствия, в частности превращенные формы механизма роста знания. При нормальном положении дел экстравагантности «переднего края» науки — фикции, гипотезы, догадки, ошибки — прежде чем попасть в «твердое ядро» фильтруются и очищаются. На этом пути гипотетическое и приблизительное знание успевает превратиться в достоверное и истинное. Правда, многое из «науки активного поиска» не способно выдержать испытания, оно неминуемо отвергается. Такова непреложная логика научного исследования: чтобы двигаться в неизведанное, необходимо опираться только на твердое и проверенное.
Иначе обстоит дело в сплющенной модели знания. «Передний край» и «твердое ядро» четко не отделены друг от друга, ни один элемент знания не проверяется на истинность или ложность, они минуют критическую «возгонку». Теоретические принципы, философские постулаты сразу же принимаются на веру как аксиомы. Процесс и результат здесь спроецированы в одну точку, процессуальный, исторический характер науки исчезает. «Твердое ядро» — уже не достоверный пласт научных теорий, а накопитель морально устаревшего знания. Разделение на грешных и праведных отсутствует, значит, отпадает надобность анализировать альтернативы, проигрывать возможные ходы мысли, расширять семантический горизонт знания, продуцировать новое.
«Твердое ядро» отныне не способно репродуцировать истину, оно перестает служить эвристической программой обоснования. То, что в обычной науке выступает балластом — малообоснованное и неистинное, — безо всякой фильтрации попадает в культурный слой науки. Возникают понятия-призраки, категории-маски, показатели-фикции, составляющие ассортимент иллюзорного, превращенного знания. И как только наука лишается «переднего края», автоматически исчезает и ее «твердое ядро». Ни один из учебников по философии или теоретической социологии (истмату, научному коммунизму), отражающий «твердое ядро» науки застойного периода, сегодня не пригоден. В них нет истинного знания. Сплющиваясь, механизм прироста знания становится точкой, а «твердое ядро» — замкнутым кругом, который способен только воспроизводить однажды заложенные в него аксиомы.
Популяризированная версия материалистической теории истории — своеобразное «твердое ядро» прежней социологии, — созданная и канонизирован-
ная в период культа личности, представляет собой вульгарную социологию, понятную даже непрофессионалу. От настоящей философии, впитавшей лучшие достижения человеческой мысли, остались только всеобщие рассудочные универсалии, претендующие на звание категорий. Социология в стране зародилась в трудный период, когда знаний о реальном положении общества практически не было, методологические принципы давно устарели, теория руководствовалась должным, которое перестало быть идеальным, и объективным, за которое выдавалось субъективное мнение партийных чиновников.
Мнение определяло стратегию научного поиска, выбор объекта эмпирического исследования и даже судьбу соци 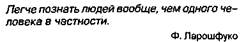 ологии. Два раза — в 30-е и в 60-е гг. — социологию объявляли лженаукой, враждебной марксизму. Социологию! — чуть ли не единственный способ получения эмпирических знаний об обществе! Однако в этих знаниях номенклатурная элита как раз и не нуждалась — ей достаточно было генеральных указаний партии, выдвинутых вождями-теоретиками.
ологии. Два раза — в 30-е и в 60-е гг. — социологию объявляли лженаукой, враждебной марксизму. Социологию! — чуть ли не единственный способ получения эмпирических знаний об обществе! Однако в этих знаниях номенклатурная элита как раз и не нуждалась — ей достаточно было генеральных указаний партии, выдвинутых вождями-теоретиками.
Чтобы развернуть систему эмпирических исследований, надо прежде реабилитировать социологию. Но сделать это можно единственным способом — вернуть ее в лоно марксизма, не нарушив идеологических запретов. Но как не нарушить их? Выход прост: объявить исторический материализм социологией, а саму социологию низвести до уровня прикладных исследований. Ситуация сложилась парадоксальная: социологические исследования получили права гражданства, а социология как наука — нет16.
Парадоксальность заключалась еще и в том, что легализовывать приходилось науку, которая однажды, в 20-е гг., уже существовала, притом как область марксистского знания и на вполне законных основаниях. Тогда речь шла об освобождении ее от старой буржуазной схоластики и абстрактного теоретизирования, о превращении ее в область эмпирического, точнее, прикладного знания. В марксистском характере социологии как науки практически никто тогда не сомневался. Даже в самые тяжелые для страны годы (1918—1926) публикация трудов по проблемам социологии занимала одно из первых мест среди публикаций по гуманитарным наукам, проводились социальные эксперименты. Более того, в 1920 г. в стране был создан Институт социологии, а в 1921 г. — Центральный институт труда, успешно развивавший «социальную инженерию». Издавались даже учебники по социологии для средних школ.
«Второе рождение» советской социологии (60-е гг.) происходило в искусственно созданной ситуации ее идеологического неприятия. К тому времени она успела получить ярлык буржуазной науки. Почему же в 20-е гг. социологию считали марксистской, а в 60-е гг. — буржуазной наукой, хотя за этот период она ничуть не изменилась? Более того, она и не могла измениться — ни в области теоретических принципов, ни в области своей методологии, ибо в течение 30 лет оставалась мертвым знанием. Объективные причины тому, несомненно, были, но, думается, их перевешивали причины субъективные, — видимо, в обществе было много того, что приходилось скрывать, а не публично демонстрировать. Но если представить себе, что социология каким-то чу- дом уцелела в тот период, к кому ей апеллировать, призывая улучшить поло-
16 Как это было (интервью с чл.-кор. АН СССР Г.В. Осиповым) // Социологические исследования. 1988. № 4. С. 127.
жение дел? К административной системе — единственной, кто обладал реальной властью, или к общественному мнению, не имевшему реальной силы и власти? У социологии не было и до сих пор нет своей аудитории, она не являлась и не является ничьей трибуной, когда речь идет о больших социальных группах, имеющих различные политические и экономические интересы. Она была не трибуной, а рупором, который держали в своих руках те, кого она — если бы социологи занимали гражданскую позицию — должна была разоблачать в первую очередь. Хотели мы того или нет, но социология служила научным прикрытием мафиозных, клановых интересов.
Каркас социальной пирамиды, в основании которой находилось политически незрелое публичное мнение, составляли закаленные в классовых битвах бюрократы, а ее вершину — номенклатурная элита, не нуждавшаяся в поиске 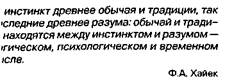 истины. При таком раскладе социология никому не угрожала и никак не могла служить орудием дестабилизации официального порядка. Тем не менее ее побаивались. Напротив, философия, выдающая должное за действительное, служила прекрасным идеологическим оружием укрепления административной системы. Их союз и породил странный симбиоз, который можно назвать социальной мифологией.
истины. При таком раскладе социология никому не угрожала и никак не могла служить орудием дестабилизации официального порядка. Тем не менее ее побаивались. Напротив, философия, выдающая должное за действительное, служила прекрасным идеологическим оружием укрепления административной системы. Их союз и породил странный симбиоз, который можно назвать социальной мифологией.
«Второе издание» социологии во многом оказалось противоположным первому ее «изданию». В 20-е гг. социологию стремились освободить от старого теоретического груза, в 60-е же — прочно связать с устаревшим теоретическим знанием. Правда, в обоих случаях акцент ставился на эмпирических исследованиях, но цель преследовалась разная: в 20-е гг. приходилось раскрывать истинное положение дел, а в 60-е — иллюстрировать достижения социализма.
Философия все больше загоняла социологию в тупик иллюзорного сознания. Возможно, этого бы не случилось, не потеряй философия своей изначальной рефлексивно-критической функции. Для Маркса она служила орудием революционного изменения мира, средством переоценки ценностей. Но почему она стала иной при социализме? Если Маркс задумал свое учение как средство защиты угнетенных, то почему через 100 лет оно превратилось в способ защиты угнетателей?
По удачному выражению Г. Мэттьюза, философия представляет собой «узаконенную наивность», т.е. поощряет человека задавать вопросы настолько существенные и глубокие, что попытки их разрешить обычно кажутся наивными17.
Философствование как творческая способность скорее, нежели как техническая процедура познания, начинается с радикального сомнения — в самом привычном и обыденном. Призвание философии вовсе не в том, чтобы ответить на все наши вопросы, ее функция — постановка вопросов, которые открывают новое и неизвестное, обнаруживают скрытое в привычном окружении повседневной жизни (Б. Рассел). Сложись судьба социологии иначе, философия научила бы ее, как проникать в глубь явлений, выходить за рам-
ews G. Philosophy and the young child. Cambridge (Mass.). L: Harvard Univ. Press, 1980.
ки обыденного мнения, скрупулезно регистрируемого в анкетах. Но судьба сложилась так, что философия придала этому обыденному мнению статус научного авторитета. Она превратилась в мостик, соединивший мнение элиты и мнение толпы.
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 378; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!