
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Анкеты, письма, жалобы
|
|
|
|
Когда социологическая анкета заполнена респондентом, она приобретает статус документа. Неважно, что на ней нет гербовой печати или она не напечатана на бланке. Ведь «документ» на латинском означает просто «свидетельство». Если выражаться более современным языком, то документ — это материальный носитель данных с записанной на нем информацией. Информация может быть письменной, звуковой, графической и какой-либо другой.
Поэтому говорить о социологической анкете как о документе совершенно правильно. Официальный документ на бланке или с печатью является лишь одной из частных разновидностей документа вообще. Он называется деловой бумагой, которая юридически подтверждает конкретный факт или право на что-то. Социологическая анкета фиксирует реальный факт — мнение конкретного человека, хотя не подтверждает его права на что-то.
Помимо анкет или бланков интервью в социологии достаточно широко используются другие виды документов.
Автобиографии как источник информации, писал в 1913 г. Ф. Знанецкий, используются в социологии недавно, но их значение трудно переоценить. В отличие от психолога или историка социолог рассматривает пишущего свою биографию в социальном окружении. Поэтому в автобиографии социолог прочитывает то, что человек сказал мимоходом, ошибочно, что не хотел выставлять на первый план или даже о чем умалчивал: кто влиял на формирование его личности, их социальное происхождение, какова была тогда расстановка социальных сил, как складывались взаимоотношения и поведение людей.
Для социолога мемуарные источники, по мнению Ф. Знанецкого, даже более важны, чем для историка или психолога. Ибо для них автобиография в строгом смысле может стать источником ошибочной информации, а для социолога даже сбивчивые данные, ложные намерения, скрываемые пред-
почтения, если он их правильно расшифровал, — незаменимый и ни с чем не сравнимый объект изучения. Умения читать между строк, видеть то, что собирался скрыть автор, по намекам угадывать тенденции, а по субъективным намерениям — скрытые формы социального поведения — всего этого требовал Ф. Знанецкий от профессионального социолога.
В известном смысле автобиографии, жалобы или письма людей в инстанции, написанные не под диктовку, действительно, имеют ряд преимуществ по сравнению с ответами на анкету, которую изобретает ученый. В собственноручно написанных документах подчас выражаются такие факты о поведении людей, какие не может знать ученый, составляющий анкету. В них теплится реальная жизнь живых людей, их чаяния и надежды, намерения и ожидания.
Вот конкретный пример, обнаруженный одним из авторов этой книги при анализе писем в Куйбышевский исполком Москвы в середине 1980-х гг. Группа жильцов требует лишить гражданку Н. родительских прав. В тексте письма, занимавшем несколько страниц, сообщается о том, что гражданка Н. — «проститутка, водит домой пьяных мужиков и спите ними на глазах у детей». Она имеет семерых детей, которые бегают, как беспризорники, у магазинов и попрошайничают. В трехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже, из обстановки ничего нет: «одно барахло и собаки... дети сами голые, голодные, с собаками спят». И далее. «Отец от такой женщины повесился... Мальчишки безобразничают ужасно, в школу почти не ходят, ломают все ящики почтовые, выбивают стекла... и девочки уже по маминой дорожке пошли (уже все пьют, как и мать). Девочками их назвать нельзя, они в 10 летзнают мужиков. Ходят ужасные компании». Все дети, которые «хлеба до сыта не знают», ходят по помойкам, из них вырастут «жулики или бандиты».
Другой пример. В Верховный Совет СССР пишет жительница того же района, мать двоих детей в возрасте 11 и 7,5 лет. Они живут в коммунальной квартире с соседями (комната 17 кв. м), всего три семьи. Комната на первом этаже, угловая, два окна, холодная и сырая, стены, выходящие на улицу, покрываются грибком, дети часто болеют: «Тяжело жить в одной комнате. Старший сын у меня школьник, а второй — садовский. Одному надо учить уроки, а второй хочет играть». В коридоре играть нельзя, не хотят соседи, им это мешает, поскольку у них нет детей, чужие их раздражают. «Я и так постоянно одергиваю своихдетей... живу я постоянно под страхом. Прошло уже много лет с того момента, но мне никогда не забыть этого. В 1974 г. мне мой первый муж нанес непоправимую травму. За что я и сама не знаю. Он работал на стройке слесарем, я работала... пекарем,... вышла замуж за него в 1970 г. В 1971 г. родился сын. Ему дали эту комнату. Вроде все нормально. 14 августа 1974 г. он не пришел домой ночевать, пришел 20 августа, в 0 часов 10 мин. Я ему открыла, у меня была моя мама в гостях... Он зашел и не говорил ни слова, кроме "Почему не спите?", стал наносить мне удар за ударом топором». Крики услышала мать, выбежала на лестничную клетку и стала звать на помощь, проснулся сын, стал кричать. «В горячке я даже не поняла, что он со мной делает. Он... подошел к сыну, я его оттолкнула, взяла сына, открыла окно и хотела вместе с ним вылезти, но упала за окно одна. Когда он вышел из комнаты, там стояла мама, он ударил ее топором. Решив, вероятно, что я мертвая, он побежал на линию, а там в это время шел состав и, как говорят уже очевидцы, он ползком подполз к рельсам, положил голову на
рельсы, и ему отрезало голову. На крик сына собрались люди. А я была уже на операционном столе. Я преклоняюсь перед врачами, они просто подарили мне жизнь, а сыну вернули мать. Ведь они меня собрали по частям.
Очень тяжело все это вспоминать, но приходится. Люди напоминают мне и моим детям. Второй брак тоже не удался. Жить было негде кроме как в этой комнате. Выйдем на улицу погулять с сыном, а ему все говорят: "Ведь она рубленная, ее муж рубил топором". Я от него не скрываю, что случилось со мной, но ему почему-то было слушать стыдно от людей, а когда родился совместный сын, стал очень плохо относиться к старшему сыну. Мне, конечно, жалко обоих своих детей. Вот мы с ним и расстались. Вот уже 4 года я воспитываю одна своих детей. Я их очень люблю и хочу, чтобы им никто не напоминал об этом. Работу я свою поменяла, все расспрашивали "почему и как?"... Я очень рада, что нет знакомых... Вот если бы Вы еще мне помогли, дорогие товарищи, с квартирой. Я стою на очереди, а вас просто умоляю, помогите мне избавиться от этой комнаты и этого двора... ведь очень тяжело воспитывать одной двоих детей в такой обстановке... Мне больше надеяться не на кого... Извините, что я Вас беспокою с уважением...»
Разумеется, никакой социолог не может предвидеть все конкретные пери-петии, подстерегающие человека на 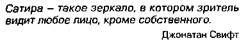 жизненном пути.
жизненном пути.
Его анкета рассчитана на статистически среднего индивида. Сам термин «респондент» уже подразумевает, что с человеком будут обращаться как с представителем большой социальной группы, а не персонально. В преамбуле к анкете («инструкция по заполнению») опрашиваемого не просят указывать свою фамилию. Ему вроде бы доверяют, предлагая ничего не бояться и смело высказывать свое мнение. Но доверяют-то ем\ как «типичному субъекту», а гарантия анонимности достигается статистической обработкой данных, где индивидуальное мнение и поведение растворяется в массе похожих на него людей.
А вот письма и жалобы, написанные безо всякого отношения к социологическому исследованию, индивидуальны и адресны. В них содержатся эмоции и переживания людей, подробности жизненных ситуаций, которые невозможно типологизировать или усреднить. Они — уникальный источит информации о социальном поведении людей.
Поведение людей в жилище — в квартире, подъезде, на улице рядом (домом — для социологии еще полно тайн и необъясненных противоречий Теоретические знания, почерпнутые из литературы и житейского опыта уче ного, охватывают незначительную часть этой реальности. Действительно, эм лирическое исследование обнаруживает вдруг такие явления и тенденции которые просто не укладываются в голове. Более того, открытые факты н всегда поддаются строгой научной интерпретации и не укладываются в из вестные схемы.
В начале 80-х гг. мы провели исследование в одном из районов Москвь Надо было подготовить эмпирическую информацию для составления план социального развития. Согласно заранее рассчитанной выборке было опро шено 1500 семей. А, кроме того, проанализировано еще 2900 писем, которы находились в картотеке исполкома. Сравнение этих двух источников сведе ний и выявило ряд парадоксов в нашем поведении.
Казалось бы, отношение жителей к качеству обслуживания, работе домоуправления, благоустройству территории или своевременному ремонту квартир не должно зависеть от того, где тебя опрашивают. Если все плохо, то так и говорят. Но выяснилось другое: люди по-разному смотрят на одни и те же недостатки в зависимости от того, куда обращены их просьбы и пожелания — социологам или вышестоящим инстанциям. Когда социолог дома просит заполнить анкету, жильцы обращают внимание прежде всего на совместные условия проживания. То есть на те недостатки, которые затрагивают всех или большинство жителей данного микрорайона или двора. Люди жаловались на плохую работу транспорта и сферы обслуживания, выгул собак на детских и спортивных площадках, замусоренность придомовой территории, превращение подъездов в среду обитания неблагополучных подростков и пьяниц, а околоподъездной территории — в стоянку для машин. Итак, социологический опрос на дому выявил коллективные установки людей.
А вот что показал анализ документов — писем жителей микрорайона. На первом месте у них стоит так называемая индивидуалистическая ориентация. Те же самые условия проживания рассматриваются теперь через личное отношение к ним. Авторы писем обращались за помощью в обмене или размене квартиры, просили ускорить капитальный и профилактический ремонт жилья, жаловались на поведение нетрезвых соседей, невнимание к ним местных органов власти.
Чем объяснить эти различия? Отчасти они зависят от эмоционального состояния респондента, отчасти они определяются самим местом сбора информации или адресатом, к которому направлена информация. Одно дело — «нейтральный» социолог, совсем другое — «начальство» в лице исполкома. Одна ситуация, когда человек свободно излагает свои предложения или высказывает просьбу социологу в домашней среде, и совсем иная, когда заявитель раздражен протечкой потолка, неисправностями в отоплении. Он пишет жалобу (после многократных и бесполезных обращений в ЖЭК) местным органам власти, надеясь на защиту или восстановление справедливости. В первом случае человек раскрепощен, он забывает о невзгодах, включившись в научный опрос. Во втором никакого социолога нет, жилец высказывает жалобу по конкретному поводу. Причем этот повод затрагивает его лично.
На практике письма используются чаще всего для формальных целей. С их помощью социолог выясняет, своевременно ли прореагировали «инстанции» и как именно. Письма классифицируются, подвергаются количественному анализу и т.п. Но жанр письма богат нераскрытыми возможностями. Письма можно анализировать еще и содержательно. За каждым из них стоит судьба живого человека, его характер и социальный портрет. Количественный анализ все упрощает, приводит к абстрактной схеме. Напротив, качественное изучение позволяет сохранить индивидуальность и неповторимость информации о поведении людей в повседневной реальности. Вот почему для социологии письма представляют уникальный, ни с чем несравнимый источник данных. Приведем наиболее яркие примеры или сюжетные зарисовки поведения.
Сюжет первый. Восприятие жилищных условий, навязанное смещениями в психике человека. 1. Мужчина пятидесяти лет без конца жалуется в исполком на неисправность кафельной плитки в своей квартире. Специально созданная комиссия устанавливает: техническое состояние плитки нор-
мальное. Но жилец продолжает настаивать на своем: он утверждает, что плитка отделяется от стены. 2. Женщина средних лет жалуется на линолеум, который, якобы, сильно пахнет. Проверкой установлено, что его техническое качество в пределах нормы. Позже запросили данные медицинской организации, оказалось: женщина психически неуравновешенна. 3. Совершенно здоровый мужчина в своей однокомнатной квартире то и дело катает по полу металлический шарик. Делает это он, оказывается, специально. Комиссии из ЖЭКа он заявляет: раз шарик движется без видимых усилий, его пол — покатый. Следовательно, объем воздуха в квартире меньше нормы, а «власти» его намеренно обокрали.
Подобные случаи — не просто психологический курьез. Жалобы на соседскую собаку, громко цокающую по паркету, или претензии по поводу цвета линолеума на кухне отражают реальность, данную нам воображением. Не все они требуют созыва специальной комиссии и проведения бесчисленных проверок, отвлекая внимание от решения более важных проблем. В результате ЖЭК не выполняет плановые задания, а это приносит уже не выдуманный, а настоящий вред. Другой источник социального напряжения — это категория жильцов, не заботящихся о сбережении жилого фонда. Государственная квартира превращается в пьяный притон, в убежище для бомжей и тунеядцев, а иногда и просто в дом терпимости. Подобные квартиры в страшном запустении, самими жильцами практически никогда не ремонтируются. В результате еще один парадокс: благополучным семьям, которые добросовестно следят за сохранностью жилья и сами ремонтируют свои квартиры, ЖЭК не помогает. В то же время «притоны» ему все же приходится ремонтировать, поскольку и они — государственный жилой фонд. Вот и получается, что добросовестные и честные труженики платят вдвойне.
Сюжет второй. Старый дом, новые проблемы. Социологические опросы и жэковская статистика свидетельствуют: в старых домах люди жить не хотят, если в них отсутствует современное благоустройство. Средств на капитальную реконструкцию ЖЭКам, как правило, не хватает, их не достает и на ремонт новых домов. Но вот парадокс. Даже там, где деньги есть и ЖЭК намерен реконструировать старый фонд, жильцы не всегда пускают строителей в свои квартиры. Казалось бы, люди ведут себя явно вне всякой логики, они не хотят жить лучше. Но при ближайшем рассмотрении и здесь обнаруживается своя, пусть необычная логика: жильцы уверены, и в этом их убеждает жизненный опыт либо нерадивые управленцы, что капитальный ремонт проводится ЖЭКом с целью оттянуть срок переселения в новые и гораздо более благоустроенные квартиры, положенные по закону. В конечном счете государству выгоднее сохранить старый фонд, как-то реконструировав его. Ведь жилищная проблема остается нерешенной. Но жильцам выгодно другое — переселиться в новый дом. Экономически старый жилой фонд еще перспективен, но социально, с точки зрения потребностей и запросов горожан, он уже безнадежно устарел.
Сюжет третий. Новый дом, старые проблемы. Известно, что новые дома сдаются с серьезными недоделками. Низкое качество изготовления либо устаревший проект уравнивают его со старым жилым фондом. Не успели люди вселиться, как выходит из строя центральное отопление, отключается вода, стены начинают пропускать холод или перегреваются от солнца, а потолки нещадно протекают. Большинство жалоб в исполком именно на эту
тему. Здесь для социолога интересна не техническая, а поведенческая сторона вопроса. Чаще всего можно встретить такие ситуации.
Перебои в отоплении квартир и отсутствие в домах автоматического регулятора тепла вынуждают жильцов (особенно в угловых комнатах) включать дополнительные электроприборы или спускать горячую воду в канализацию. В результате нарушается общий тепловой режим дома: одни квартиры перегреваются, другим тепла не достает. Энергоресурсьг расходуются неэкономно: для жильцов они почти бесплатны, а для государства обходятся в копеечку.

Рис. 10. Недоверие жильцов к местной власти часто носит абсурдный характер
На «объективных трудностях» спекулируют и жильцы, и работники ЖЭКа. Ситуация первая: дом сдан с явными недоделками, жители жалуются на холод. Но домоуправление отмалчивается. Наконец, когда количество писем достигает критической черты, назначается комиссия. Однако когда она приходит, температурный режим в квартире оказывается почему-то нормальным. Стоит же ей уйти, как все оказывается по-прежнему: температура снижается. Письма жильцов подсказали правильный ответ. Надень осмотра ЖЭК принимает экстренные меры, котельная работает на всю мощь, так что в квартире бывает нечем дышать. Поэтому в отчетном протоколе записывается: температурный режим в квартире «в пределах нормы». Какие только ухищрения не пускаются в ход, только бы не брать на себя лишних забот.
И жильцы, в свою очередь, тоже приспосабливаются к плохой работе домоуправления. Ситуация вторая. Если вас не устраивает район и вы собираетесь сменить место жительства, то самый простой способ — не обивать пороги инстанций, а просто ухудшить свои жилищные условия. Например, систематически включать горячую воду и напускать в квартиру побольше пару. Это называется нарушением режима влажности. Правда, ваши действия приводят в негодность жилые стены, разрушают инженерные коммуникации. Но вам как раз того и надо. Вы пишите жалобу о невыносимых жилимых условиях и требуете переселить вас. Процентов на семьдесят вам гарантирован успех.
Опрос экспертов (инженеров и техников-смотрителей), а также анализ писем жильцов убеждают в том, что обе стороны достигли здесь больших «успехов». Проходит долгое время, прежде чем истина распознается. Между людьми растет взаимное недоверие, нежелание понимать друг друга. Поведение строится на обоюдном обмане, во многом вынужденном. Назовем такую форму поведения вынужденно ложным.
Изучая письма людей, сталкиваешься с совершенно новой социальной реальностью. Иногда она кажется настолько абсурдной и противоречивой, что лишается всякой внутренней логики и смысла. Но стоит проникнуть глубже в эту «вселенную», как шаг за шагом выявляются ее структура, упорядоченность и внутренняя закономерность.
В чем необычность анализа жалоб как способа изучения поведения людей по сравнению с обычным социологическим опросом? Проводя опрос, социолог лишь единожды вступает в контакт с респондентом. А в почтовом опросе ученый вообще не встречается с опрашиваемым. Анализируя жалобы, специалист общается с человеком тоже заочно. Но жалоба как официально регистрируемый документ, подобно камню, брошенному в воду, создает вокруг себя расходящиеся круги. Письмо регистрируют, пересылают в другие инстанции, по его поводу создаются бесчисленные комиссии, отрываются от работы люди, выделяются материальные средства, а иногда применяются различного рода санкции.
Иными словами, приходит в движение сложная социальная система. У нее свой механизм, свои привычки и правила поведения, свои способы реагирования на сложные ситуации, защитные механизмы и т.п. Можно анализировать не только содержание конкретной жалобы, но их количество, повторяемость, адресаты, время прохождения через инстанции и т.д. Вступают в силу уже чисто количественные распределения, с их помощью удается выяснить то, что порой скрыто от глаз.
Поведение «жалобщиков» не менее интересно, чем факты, описываемые в жалобе. Ибо за ними скрыты характер человека, его привычки, мировоззрение. Один из жильцов умудрился лишь за первое полугодие 1986 г. написать 16 жалоб в Моссовет, Президиум Верховного Совета СССР, районную прокуратуру, ЦК КПСС и т.д. А просил он о расселении с бывшей женой. В своей жалобе молодой человек заявляет, что его в Москву привезла жена, а теперь выгоняет из квартиры. Во втором полугодии 1986 г. в райисполком поступило письмо от его жены, в котором она категорически отказывается отдать бывшему мужу жилплощадь, доставшуюся ей от первого брака. Она сообщает, что ее второй муж женился ради прописки и поначалу претензий на жилплощадь не предъявлял. Но сейчас она ему «разонравилась», он стал «хамить» и требовать раздела. Он, т.е. «жалобщик», даже приходил в общий отдел исполкома, заявляя, что жаловался и будет жаловаться до тех пор, пока дело не решится в его пользу.
Сотрудники исполкома припоминают и другие удивительные случаи. В середине 60-х гг. их мучил заявитель, написавший за год 100 писем в самые разные инстанции, он просил улучшить его жилищные условия, другой, не менее активный заявитель, вел даже специальную картотеку и книгу ответов, присылаемых «инстанциями» на его многочисленные жалобы.
Если письма анализировать как единовременные акции или поступки человека, то не всегда удается проследить логику поведения. Порознь они представляют собой безобидные просьбы об улучшении жилплощади, рас-
селении или съезде со своими родственниками. Как правило, за ними скрываются объективные причины, и никаких корыстных мотивов здесь нет.
Но иногда социологу необходимо проследить судьбу нескольких жалоб, сравнить написанное одним человеком в разное время, чтобы выявить скрытые мотивы поступков. Иногда мотивы далеко не бескорыстные. Вот конкретный пример. В конце 1979 г. пожилой человек, инвалид войны, продал собственный дом в одном из провинциальных городов, где и был прописан, намереваясь переселиться в Москву. Удочери была вместительная трехкомнатная кооперативная квартира. Получив ее согласие, наш герой обратился в инстанции с официальной просьбой прописаться. Разрешение было получено. Вдохновленный успехом, он через какое-то время вновь обращается в исполком, но уже с просьбой разъехаться с дочерью и получить право на вступление в кооператив. И на этот раз был получен положительный ответ. Почувствовав, что при известной настойчивости можно добиться гораздо большего, заявитель пишет новое ходатайство. На этот раз он отказывается от кооперативной квартиры и требует себе государственную, которая полагается ему законом как инвалиду войны.
Прошло немного времени, как он получает ордер на себя и свою жену для въезда в государственную квартиру. В этот момент жена умирает, он женится на гораздо более молодой женщине и вновь пишет письмо с требованием вписать ее в ордер. И вновь ему идут навстречу.
Подобный случай мог бы и не вызвать негативной оценки, если бы не тот факт, что в районе в это время в очереди на улучшение жилья стояли тысячи людей, 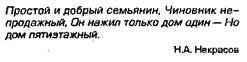 хотя на их письма инстанции реагировали не столь оперативно. Так, пожилой мужчина четыре раза жаловался в ЖЭК и даже ЦК КПСС. Первая жалоба была об обследовании жилищных условий (долго не ремонтировалась квартира). Местные власти ему ответили: проверка жилусловий санэпидемкомиссией проводится только по запросу предприятия (а если заявитель — пенсионер?). На вторую жалобу ответ был такой: согласно генеральному плану реконструкции дом подлежит сносу, сроки еще не определены. На все жалобы приходили формальные и противоречащие друг другу отписки.
хотя на их письма инстанции реагировали не столь оперативно. Так, пожилой мужчина четыре раза жаловался в ЖЭК и даже ЦК КПСС. Первая жалоба была об обследовании жилищных условий (долго не ремонтировалась квартира). Местные власти ему ответили: проверка жилусловий санэпидемкомиссией проводится только по запросу предприятия (а если заявитель — пенсионер?). На вторую жалобу ответ был такой: согласно генеральному плану реконструкции дом подлежит сносу, сроки еще не определены. На все жалобы приходили формальные и противоречащие друг другу отписки.
Вообще, переписка жильцов с местными властями — это социологическая целина и в то же время бесценный источник новой информации о поведении людей, находящихся в разных «весовых» категориях с точки зрения социальной классификации. Облеченные властью и не имеющие над собой действенного контроля работники ДЭЗов и ЖЭКов ведут себя зачастую как удельные князья. Хотя они — всего лишь обслуживающий персонал. Напротив, рядовые жильцы, законом наделенные правами требователя, вдруг становятся в позу просителя.
В этом мире, где все поменялись ролями, отношения также принимают превращенный вид. Возникают и функционируют совершенно новые, очень странные типы поведения, манера общения, вырабатывается специфический язык. Например, люди жалуются на плохое отопление в доме. «Инстанции» им отвечают: температурный режим соответствует санитарно-техническим нормам, промерзание допускается по причине неполного заселения дома. Или: на коллективное письмо, в котором жильцы пишут о сквозняках в квар-
тирах, промерзании стен, отключении горячей воды и просят устроить во дворе детскую площадку, из ЖЭКа приходит ответ: «Проблемы решены». Когда же начинаешь разбираться, то оказывается, что из перечисленного оборудована только детская площадка. Но благодаря такому трюку письмо снимается с контроля и против него ставится «Решено».
На каждое письмо, поступающее в исполком, заводится специальная папка. В ней обозначены адресные данные, формулировка обращения (суть жалобы) и способ, которым жалоба удовлетворяется. Обычно интерпретация ответов (они обозначаются в карточке символами «+»,«-» и «Р») дается с позиций и в пользу исполкома, а не жильца. Допустим, человек просит улучшить жилищные условия. Исполком предлагает квартиру из тех, которые имеются в наличии, например за отселением. Она не всегда высокого качества, жильцу не подходит, и он отказывается переселяться, считая, что новая квартира ничуть не лучше старой. С точки зрения исполкома, это есть решение проблемы («+»), а с точки зрения жильца — нет. Но путь к новым жалобам ему закрыт, ибо в карточке отмечается: квартиру предлагали, но жилец отказался.
На канцелярском языке местных бюрократов даже точные формулировки сводятся к ничего не значащим, двусмысленным выражениям. Например, формулировка «Положительно» («+») ставится в таких случаях. 1. Принято письмо об ускорении предоставления жилплощади. Ответ: «Положительно». И дается разъяснение: по мере поступления жилплощади будет произведено переселение. На другое письмо с аналогичной просьбой исполкомовцы отвечают точно так же и записывают: «При вашем согласии исполком может рассмотреть вопрос».
Поразительные по своей двусмысленности сослагательные формулировки типа «будет» или «может» доказывают, что вопрос реально не решен. Он только может быть решен, если будут такие-то и такие-то условия. За ними кроется нежелание работать, стремление спихнуть решение вопроса на кого-то другого. Но при этом — выйти из воды сухим. Бюрократ ведет себя так, что с формальной точки зрения к нему нельзя придраться, в чем-то обвинить. Иначе он плохой бюрократ, т.е. малоопытный, непрофессиональный. Форма документа обслуживает и защищает его групповые интересы. Составляется она так, чтобы была выгодна бюрократу, а не жильцу. Три магических знака: «Положительно» (+), «Отклонено» (-) и «Разъяснено» (Р), спасают бюрократа от многих неприятностей, делают его рабочее место неприступной крепостью. Вам не подходит предлагаемая исполкомом квартира? Против вашего письма ставится «Р». Она означает, «в виду непредоставления вашего согласия на жилплощадь за выездом ваш материал с контроля снят». Или: «ваш вопрос будет рассмотрен при поступлении жилплощади в ЖЭК»; «необходимо предоставить дополнительные документы» и т.п.
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 620; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!