
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Конструирование особенного, или формы искусства 1 страница
|
|
|
|
После того как завершено конструирование материи искусства, заложенной в мифологии, перед нами встает новая противоположность. Мы начали с конструирования искусства как реального выявления абсолютного. Последнее не могло быть реальным без того, чтобы не выявлять абсолютного через отдельные конечные вещи. Мы произвели синтез абсолютного с ограничением; отсюда возник для нас мир идей искусства, но и он в своем отношении к изображению есть опять-таки только материя, или общее, которому противостоит форма, или особенное.
Каким же образом эта общая материя переходит -в особенную форму и становится материей особенного произведения искусства?
Уже из выставленного вначале основоположения можно заранее усмотреть, что и здесь дело сведется к тому, чтобы абсолютно синтезировать обе противоположности, посредством нового синтеза представить материю и форму в неразличимости. Сюда относятся следующие положения, с которыми мы переходим к конструированию произведения искусства, как такового.
§ 62. То, что непосредственно порождает произведение искусства, или единичную действительную вещь, через которую в идеальном мире абсолютное становится реально-объективным, есть вечное понятие, или
К оглавлению
==160
идея, человека в боге, которая образует единство с самой душой и с нею связана.
Доказательство. это выводится из § 23, по которому формальная, или абсолютная, причина всякого искусства есть бог. Но бог непосредственно и из самого себя продуцирует только идеи вещей, действительные же и особенные вещи — лишь опосредованно в отраженном мире. Таким образом, поскольку принцип божественного воссоединения, т. е. сам бог, объективируется через особенные вещи, постольку не бог, взятый непосредственно и сам по себе, но лишь бог как сущность некоторого особенного и в своем отношении к особенному есть то, что продуцирует особые вещи. Но бог имеет отношение к особенному лишь через то, в чем оно едино со своим общим, т: е. через его идею или его вечное понятие. В настоящем случае эта идея есть идея самого абсолютного. Но такая идея получает непосредственное отношение к особенному или объективно продуцируется только в организме и разуме, причем то и другое мыслится в их единстве (ведь по § 17 и 18 только первый есть реальное, второй же есть идеальное отражение абсолюта в реальном или сотворенном мире). Неразличимость же организма и разума или единое, в котором абсолютное объективируется в равной мере реально и идеально, есть человек. Итак, бог, поскольку он имеет отношение к человеку через идею, или вечное понятие, или, иначе говоря, вечное понятие самого человека, пребывающее в боге, есть то, что созидает произведение искусства. А идея человека есть не что иное, как сущность или по-себе-бытие самого человека, которое объективируется в душе и теле и, следовательно, непосредственно соединяется с душой.
Объяснение. Все вещи пребывают в боге только через свою идею, и эта идея объективируется там, где и в отражении продуцируется единство бесконечного в конечном в форме. А так как именно это происходит в человеке, причем здесь конечное, тело, как и душа, составляет полное единство, то здесь объективируется идея как идея, и, поскольку ее сущность заключается
11 Φ В Шеллинг
==161
в продуцировании, постольку эта идея вообще продуктивна.
§ 63. Это вечное понятие человека в боге как непосредственная причина его [человеческого} продуцирования есть то, что называют гением, как бы genius104, обитающее в человеке божественное. Это, если можно так выразиться, образчик (ein Stück) абсолютности бога. Поэтому каждый художник и может продуцировать не более того, что связано с вечным понятием его собственного существа в боге. Таким образом, чем больше созерцается универсум уже в этом понятии для себя, чем оно органичнее и чем больше связывает конечное с бесконечностью, тем оно продуктивнее.
Объяснение: 1. Бог не продуцирует из себя ничего, в чем не отображалась бы еще раз вся его сущность, следовательно, ничего, что в свою очередь не продуцировало бы, в свою очередь не было бы универсумом. Так обстоит дело в по-себе-бытии. Что же касается того, чтобы продуцирование бога, т. е. идея как идея, выступило и в явленном мире, то это зависит от условий, которые заложены в последнем и которые поэтому нам кажутся случайными, хотя с более высокой точки зрения и явление гения всегда опять-таки есть нечто необходимое.
2. Божественное продуцирование есть вечный, т. е. вообще не имеющий отношения ко времени, акт самоутверждения, в котором есть реальная и идеальная стороны. Через первую он внедряет в конечное свою бесконечность и есть природа, через вторую — вновь возвращает конечное в свою бесконечность. Но как раз это и подразумевается в идее гения, а именно: он, с одной стороны, мыслится как природное, с другой — как идеальное начало. Итак, это и есть вся абсолютная идея, сполна созерцаемая в явлении или в отношении к особенному. Здесь одно и то же отношение: то, через которое в первоначальном познавательном акте продуцируется мир по себе, и то, через которое в акте гения продуцируется мир искусства как тот же мир сам по себе, но в явлении. (Гений отличается от всего, что есть лишь талант, тем, что последний обладает только эмпирической необходимостью, в конечном счете представ-
==162
ляющей случайность, между тем как первый — абсолютной необходимостью. Каждое подлинное произведение искусства абсолютно необходимо: такое произведение искусства, которое одинаково могло бы быть и не быть, этого имени не заслуживает.)
§ 64. Дефиниция. Реальную сторону гения, или то единство, которое представляет собой облечение бесконечного в конечное, можно назвать в более тесном смысле поэзией; идеальную же сторону, или то единство, которое оказывается облечением конечного в бесконечное, можно назвать искусством в искусстве 105.
Объяснение. Если мы будем придерживаться обычного словоупотребления, то под поэзией в более узком смысле слова нужно понимать непосредственное творчество или созидание реального, инвенцию само по себе и для себя. Но всякое непосредственное творчество или созидание всегда и необходимо есть выявление чего-либо бесконечного, некоторого понятия в чем-либо конечном или реальном. Идею искусства мы все скорее относим к противоположному единству — единству облечения особенного в общее. В инвенции гений распространяется или изливается в особенное; в форме он возвращает особенное в бесконечное. Лишь в завершенном облечении бесконечного в конечное последнее становится чем-то правомочным (Bestehendes) для самого себя, существом самим по себе, а не только обозначающим другое. Так, абсолютное дает независимую жизнь заключенным в нем идеям вещей, поскольку оно и бесконечным образом облекает в конечное; через это они обретают жизнь в себе самих, и лишь поскольку они в себе абсолютны, они пребывают в абсолютном. Итак, поэзия и искусство соотносятся как два единства: поэзия есть то, посредством чего вещь обладает жизнью и реальностью в самой себе 106, искусство — то, благодаря чему она пребывает в порождающем.
§ 65. Дефиниция. Первое из двух единств, облекающее бесконечное в конечное, выражается в произведении искусства преимущественно как возвышенное, второе же, облекающее конечное в бесконечное,— как прекрасное.
II*
==163
Мы можем обосновать это, лишь указав, что признаваемое п о общему согласию возвышенным и прекрасным есть не что иное, как то, что выражено в нашей дефиниции.— Наше мнение, собственно, таково: если бесконечное принимается в конечное, как таковое, и, таким образом, бесконечное усматривается в конечном, мы оцениваем предмет, в котором это происходит, как возвышенный. Все возвышенное есть или природа, или душевный строй (из дальнейшего нам станет ясно, что сущность, субстанция возвышенного всегда одна и та же и меняется лишь форма). Возвышенное в природе опять-таки двояко: «оно заключается или в том, что нам дается чувственный предмет, слишком высокий для нашей способности восприятия и неизмеримый для нее, или в том, что нашей силе, поскольку мы живые существа, противостоит мощь природы, перед которой первая оказывается ничем».— Примерами первого случая могут служить безмерные горные массивы, до вершины которых не достигает взор, широкий, объятый лишь небесным сводом океан, мировое строение в своей неизмеримости, для которой любой мыслимый человеческий масштаб окажется недостаточным. Обычно эта неизмеримость природы рассматривается как само бесконечное; с этим аспектом никоим образом не связано чувство возвышенного, скорее чувство подавленности. В величине, как таковой, как простом отблеске истинной бесконечности, нет ничего бесконечного. Созерцание возвышенного приходит тогда, когда чувственное созерцание величины эмпирического предмета оказывается несоразмерным и выступает истинное бесконечное, для которого первое всего лишь чувственно-бесконечное становится символом. В этом смысле возвышенное есть подчинение конечного, которое подделывает бесконечное,— истинно бесконечному. Не может быть более совершенного созерцания бесконечного, чем там, где символ, в котором созерцается бесконечное, в своей конечной природе прикидывается бесконечным. Воспользуемся здесь словами Шиллера: «Для наблюдателя-эмпирика неизмеримость природы может напоминать лишь о пределах его кругозора, точно так же как пугающая своей без-
==164
мернои силой губительная природа может напомнить ему лишь о его бессилии. При исключительно чувственном созерцании он из малодушия пли от ужаса отвернулся бы от этой великой картины природы. Но не так-то скоро возвышается он до абсолютного созерцания; как только бесконечный предмет более высокого созерцания спустится к нему в поток этих явлений и соединится с неизмеримостью чувственного созерцания как со своей простои оболочкой, дикие громады природы вокруг него начнут созерцаться им совсем иначе, причем относительно великое вне его окажется лишь зеркалом, в котором он узрит абсолютно великое, бесконечное само по себе. Теперь он преднамеренно вызывает в себе способность созерцать само по себе бесконечное, чтобы подчинить ему чувственнобесконечное как простую форму и в этом подчинении чувственно-великого тем непосредственнее ощутить превосходство своих идей перед тем высочайшим, что только может открыть или представить перед ним природа» 107.
Такое созерцание возвышенного, невзирая на свое родство с идеальным и нравственным, составляет эстетическое созерцание — употребим здесь один раз это слово. Бесконечное господствует, но лишь постольку, поскольку оно созерцается в чувственно-бесконечном, которое в этом отношении опять-таки конечно.
Такое созерцание истинно бесконечного в бесконечном природы есть поэзия, свойственная всякому человеку; ведь для самого наблюдателя относительно большое в природе становится возвышенным, когда он его делает символом абсолютно великого.
Моральная и интеллектуальная дряблость, мягкотелость и трусость в мышлении уклоняются от этих высоких зрелищ, которые являют им страшную картину их собственной презренной ничтожности. Возвышенное в природе, как и в трагедии и искусстве вообще, очищает душу, освобождая ее от ограниченного страдания (von dem bloßen Leiden).
Как храбрый человек, когда на него одновременно с яростью обрушиваются все силы природы и судьбы, в самый момент наивысшего страдания переходит
==165
к наивысшей свободе и к сверхземному упоению, сметающему все преграды страдания, так и тот, кто умеет вынести лик грозной и разрушительной природы и высочайшее напряжение ее губительных сил, достигает абсолютного созерцания, подобного солнцу, когда оно пробивается из-за грозовых туч.
В век душевной мелочности и духовного уродства трудно найти более общедоступное средство к охране и постоянному очищению себя от этих скверн, чем такое общение с великой природой; вряд ли также · нашелся бы более богатый источник великих мыслей и героических решений, чем это вечно новое упоение при созерцании чувственно-страшного и чувственновеликого.
Мы до сих пор рассмотрели два вида возвышенного: тот, где природа абсолютно велика и бесконечна для нашей способности восприятия по своим размерам, и тот, где она такова для нашей физической силы по своей мощи, но в своем отношении к истинно бесконечному оказывается в свою очередь лишь относительно великой и относительно бесконечной. Нам остается теперь более точно, чем раньше, определить форму созерцания возвышенного.
Как везде, так и здесь форма есть нечто конечное, но с оговоркой, что здесь конечное· должно проявляться как относительно бесконечное, а для чувственного созерцания — как абсолютно великое. Но именно в связи с этим у конечного отрицается форма, и мы поэтому понимаем, почему именно бесформенное наиболее непосредственным образом становится для нас возвышенным, т. е. символом бесконечного, как такового.
Форма, которую мы различаем как форму, именно поэтому полагает конечное как особенное, а конечное, которое должно принять бесконечное, должно быть ему адекватно как символ, что может произойти двояким способом: или когда конечное абсолютно бесформенно, или когда оно абсолютно оформлено, ибо то и другое в конечном итоге совпадает. Абсолютная бесформенность есть именно высшая, абсолютная форма, в которой бесконечное выражается конечным, не будучи
==166
затронутым его границами. Но именно поэтому подлинно абсолютная форма, в которой устранено все ограничивающее, и оказывает на нас опять-таки то же действие, как и абсолютная бесформенность,— таковы божественные образы Юпитера, Юноны и т. д.
Разумеется, природа возвышенна не только по своим превышающим нашу способность восприятия размерам или по своей непобедимой для наших физических сил мощи, она возвышенна вообще в своем хаосе, или, как выражается также Шиллер, в запутанности (Verwirrung) своих явлений вообще.
Хаос — основное созерцание возвышенного; ведь даже массу, слишком огромную для нашего чувственного созерцания, или сумму слепых сил, слишком мощную для наших физических возможностей, мы воспринимаем в созерцании только как хаос, и лишь постольку хаос становится для нас символом бесконечного.
Основное созерцание самого хаоса коренится в созерцании абсолютного. Внутренняя сущность абсолютного, в котором все составляет единство и единство составляет все, сводится к этому изначальному хаосу; но как раз здесь мы встречаемся с упомянутым выше тождеством абсолютной формы и бесформенности 108; ведь этот хаос в абсолютном не есть простое отрицание формы, но бесформенность в высшей и абсолютной форме, и обратно — высшая и абсолютная форма в бесформенности: абсолютная форма, поскольку в каждой форме заключены все и во всех формах каждая; в бесформенности, поскольку именно в этом единстве всех форм ни одна не выделяется как особенная los).
Через созерцание хаоса разум доходит до всеобщего познания абсолютного, будь то в искусстве или в науке. Обыкновенное знание после тщетного стремления исчерпать разумом хаос явлений в природе и истории принимает решение сделать, как говорит Шиллер, «само непостижимое исходной точкой своего суждения», т. е. принципом; в этом, по-видимому, заключается первый шаг к философии или по крайней мере к эстетическому созерцанию мира. Только в этом своеволии, которое обычному рассудку представляется без-
==167
законном, только в этой самостоятельности и свободе от обусловленности, которую сохраняет даже каждое явление природы для рассудка, ввиду того, что он никогда в совершенстве не может постичь взаимной обусловленности явлении и поневоле должен признать за каждым из них его абсолютным характер,— только в этой независимости каждого отдельного явления, ставящей предел рассудку с его исследованием условий, рассудок может признать мир действительным символом разума, в котором все безусловно, и абсолютного, в котором все свободно и непринужденно.
С этой стороны обнаруживается также возвышенное в душевном строе, главным образом поскольку то лицо, в котором оно обнаруживается, может одновременно служить символом всей истории. Тот же мир, который в качестве природы еще остается в пределах законов, достаточно растяжимых, чтобы сохранять внутри видимость беззакония, в области истории, по-видимому, отбрасывает всякую закономерность. Реальное здесь мстит и возвращается со всей своей строгой необходимостью, чтобы разрушать все законы, которые свободная стихия устанавливает для самой себя, и чтобы наперекор ей показать свою независимость. Человеческие законы и цели не тождественны здесь с законами природы. «Природа,— воспользуемся вновь выдержкой из Шиллера 110,— с одинаковым пренебрежением обращает в прах творения мудрости и случая и влечет с собой к гибели важное и незначительное, благородное и пошлое. Природа во мгновение ока губит и расточает совершеннейшие творения, свои же собственные труднейшие приобретения и, напротив, тратит века на произведения глупости». «Такое коренное уклонение природы от принципов разума,— добавляет Шиллер,— непосредственно обнаруживает абсолютную невозможность объяснения самой природы при помощи ее же законов, которые имеют силу в ее пределах, но не по отношению к ней самой. Уже простое созерцание этого неудержимо увлекает ум из пределов мира явлений в мир идей, из условного в безусловное». Герой трагедии, несмотря ни на что спокойно переносящий все тяжести и козни судьбы, на него обрушив-
==168
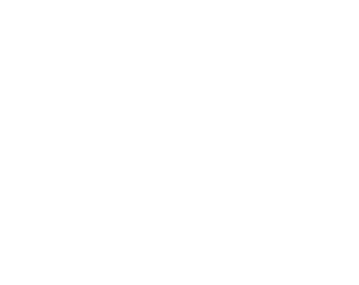
К. Д Фридрих. Горы в тумане
шиеся, именно поэтому и олицетворяет в себе это по-себе-бытие, это безусловное и абсолютное: он спокойно смотрит вниз на поток мировых событий, уверенный в своих замыслах, не осуществимых никаким временем, но и никаким временем не уничтожимых. Несчастье, которое чувственным, образом повергает π изничтожает трагическую личность, составляет такой же необходимый элемент морально-возвышенного, каким для физически-возвышенного оказывается борьба сил природы и превосходство их над чисто чувственной способностью восприятия. Только в несчастье испытывается добродетель, только в опасности — храбрость; храбрец в борьбе с несчастьем, в которой он не побеждает физически и не сдается морально, есть только символ бесконечного, того, что выше всякого страдания. Лишь в maximum'e страдания может раскрыться то начало, в котором нет страдания, как все вообще объективируется лишь в своей противоположности. Именно поэтому подлинно трагически возвышенное основывается на двух условиях: нравственная личность изнемогает под силами природы и в то же время побеждает через свой душевный строй; существенно, чтобы герой побеждал только через то, что не может быть природным действием или удачей, следовательно, только через душевный строй; как это всегда и бывает у Софокла, без того, чтобы, как часто мы видим у Эврипида, суровость судьбы героя была по видимости смягчена через нечто иное, внешнее. Ложная мягкость, которая удовлетворяет вялый вкус, не переносящий строгой необходимости, не только сама по себе достойна презрения, но не достигает и собственно художественного воздействия, которое она имеет в виду.
Теперь уже достаточно разъяснено, в какой мере возвышенное есть облечение бесконечного в конечное, но таким образом, чтобы конечное неизменно само выступало как относительно бесконечное (ибо только в этом случае можно будет отличить истинно бесконечное, как таковое), будь то для восприятия, или для физической мощи, или для души, как в трагедии, где оно побеждается бесконечностью морального строя души.
==169
Я хочу здесь в отношении возвышенного сделать еще только одно замечание, вытекающее из нашего предыдущего изложения, а именно: только в искусстве сам объект возвышен, ибо это не есть природа сама по себе, поскольку здесь душевный строй, или начало, посредством которого конечное низводится до символа бесконечного, все же относится только к субъекту.
В возвышенном, как мы говорили, чувственно бесконечное побеждается истинно бесконечным. В прекрасном конечное снова смеет обнаруживаться, причем оно проявляется как образ бесконечного. Там (в возвышенном) конечное обнаруживается словно в мятеже против бесконечного, хотя в этом положении оно становится его символом. Здесь (в прекрасном) они с самого начала находятся в примиренном состоянии. Что отношение прекрасного к возвышенному должно быть таким при условии, что то и другое берется по своей противоположности, явствует, впрочем, из простого противопоставления тому, что было доказано о возвышенном. Однако именно отсюда вытекает следующее.
§ 66. Возвышенное в своей абсолютности включает в себя прекрасное, подобно тому как прекрасное в своей абсолютности включает в себя возвышенное.
В общем это уже усматривается из того, что отношение прекрасного и возвышенного между собой подобно отношению обоих единств, из которых, однако, каждое одинаково в самой своей абсолютности заключает в себе другое. Возвышенное, поскольку оно не прекрасно, будет на этом основании и не возвышенным, но только устрашающим (ungeheuer) или диковинным (abenteuerlich). Точно так же и абсолютная красота должна быть вместе с тем более или менее и грозной красотой. Поскольку, впрочем, красота всегда и неизбежно требует ограничения, постольку отсутствие границы само становится формой; так, в образе Юпитера отсутствует всякое ограничение, кроме того, которое необходимо, чтобы вообще был образ, ибо любое иное ограничение упразднено, как-то: он ни молод·, ни стар. Точно так же Юнона ограничена лишь постольку, поскольку это необходимо, чтобы быть жен-
К оглавлению
==170
ственным образом. Чем меньше ограничение, в пределах которого находится прекрасный образ, тем больше он приближается к возвышенному, не переставая быть красотой. Красота у Аполлона имеет больше ограничений, нежели у Юпитера,— он юношески прекрасен. У Аполлона — в отличие от Юпитера, у которого граница поставлена так широко, что лишь вообще бесконечное проявляется в конечном,— конечное уже в самом себе расценивается как образ для бесконечного. Еще нагляднее пример мужественной и женственной красоты: в первом случае природа применяет только необходимое для ограничения, во втором случае она щедра на это.
Отсюда вытекает, что между возвышенным и прекрасным нет качественной и сущностной противоположности, но только количественная. Большая или меньшая степень красоты или возвышенности сама опять-таки служит для ограничения: Юнона — возвышенная красота, Минерва — прекрасное возвышенное. Чем больше, однако, ограничение сглаживает бесконечность, тем чище красота.
Между тем именно вследствие неразличимости возвышенного и прекрасного определение снова оказывается относительным, и то, что в одном отношении признается возвышенным, например образ Юноны, в другом отношении может представиться опять-таки красотой в противоположность возвышенному (как Юнона по сравнению с Юпитером). Из этого явствует, что вообще ни в какой сфере ничто не может быть названо прекрасным без того, чтобы в другом отношении не быть возвышенным, однако именно поэтому в каждом самостоятельном абсолютном образе и то и другое предстает в нерасторжимом взаимопроникновении, какова, например, Юнона, если ее не сравнивать, но рассматривать самое по себе. Или, чтобы взять пример из другой сферы, Софокл в сравнении с Эсхилом есть прекрасное, а рассматриваемый сам по себе и абсолютно — совершенно неразрывное соединение прекрасного и возвышенного.
Если в отношении возвышенного захотели бы основываться лишь на голом представлении безграничности
==171
и бесформенности, что, как правило, связано с возвышенным, то представление безграничности, как уже было показано, есть необходимое условие возвышенного, но не так, чтобы оно само со своей стороны было невозможно в пределах строго ограниченных форм, но скорее так, что именно высшая форма (там, где форма в форме уже не распознается) становится бесформенностью, тогда как в других случаях сама бесформенность становится формой. Первое, как уже было сказано, мы находим в образе Юпитера и в голове так называемой Юноны Людовизи, где возвышенное настолько проникнуто прекрасным, что не может быть от него отделено. Винкельмап допускает возвышенную грацию, и сами древние хвалили страшных Граций Эсхила.
В самом произведении искусства как объективном возвышенность и красота соотносятся так, как в субъективном — поэзия и искусство. Однако и в поэзии самой по себе, как и в искусстве самом по себе, возможна в свою очередь та же противоположность: там — как наивное и сентиментальное, здесь — как стиль и манера. Отсюда: § 67. Та же противоположность обоих единств выражается в поэзии, взятой самой по себе, через противоположность наивного и сентиментального.
Общее замечание. В отношении всех этих противоположностей необходимо постоянно иметь в виду, что в абсолютности они отпадают. Однако теперь имеет место тот случай, что первое единство, то, в котором бесконечное облечено в конечное, всегда и необходимым образом проявляется как завершенное, что здесь совпадают исходная точка и завершающая, между тем как, напротив, у другого члена пары противоположностей вполне может отсутствовать абсолютное выражение именно потому, что оно только в не-абсолютности может проявиться как противоположное. Так обстоит дело, например, с сентиментальным и наивным. Поэтическое и гениальное всегда и необходимым образом наивно; таким образом, сентиментальное противоположно [наивному] лишь по своему несовершенству. Итак, мы не столько утверждаем наличие в
==172
поэзии наивного и сентиментального, сколько вообще констатируем в поэзии два направления: то, в котором общее представляется облеченным в особенное, и то, в котором особенное облечено в общее. Взятые в абсолютном смысле, оба единства должны были бы совпасть, т. е., ввиду того что «наивность» является единственным выражением, которое мы имеем для абсолютности, оба направления должны были бы быть наивными. Таким образом, «сентиментальность» является выражением другого направления лишь в его несовершенном виде; из этого явствует, что отношение наивного к сентиментальному никоим образом не совпадает с отношением возвышенного к прекрасному, описанным в предыдущем положении: там каждое само но себе выражает абсолютность.
Известно, что Шиллер впервые ввел эту противоположность в своем сочинении «О наивном и сентиментальном в поэзии», которое и помимо этого чрезвычайно богато плодотворными идеями1П. Я заимствую из него следующие положения, которые наилучшим образом послужат к уяснению данной противоположности.
«Наивное должно быть определено как природа или
явление природы а той мере, в какой последняя пристыжает искусство»112. (Эта дефиниция охватывает смысл слова в обиходном его значении в более высоком, которое ему здесь придается в отношении искусства. Уже то, что основной характер наивного таков, что оно должно быть природой, доказывает, что наивное изначально соответствует первой из обеих противоположностей.)
«Наивное есть природа, сентиментальное ищет природу» 113.
«Наивная душа чувствует естественно, сентиментальная—чувствует естественное» 114.
Всего определеннее выступает эта противоположность опять-таки при сравнении античного с новым, как это Шиллер также очень хорошо показывает. Например, понимание возвышенного в природе у греков отнюдь не связано с чувствительностью, которая испытывает лишь умиление, воспринимая природу, и не
==173
возвышается до свободного, холодного созерцаний. Напротив, основная черта современности — исключительно субъективный интерес к природе без всякой объективности в созерцании или мышлении, а люди нового мира далеки от природы, поскольку они его чувствуют, но не созерцают и но воспроизводя!.
Все различие между наивным и сентиментальным поэтом можно свести к тому, что у первого действует только объект, у второго выступает субъект как субъект. Первый как будто не сознает своего субъекта, второй неизменно сопровождает его своим сознанием и дает почувствовать это сознательное отношение. Первый холоден и бесчувствен при своем объекте подобно природе, второй уделяет нам свое чувство. Первый не проявляет к нам никакой доверительности, только его объект нам сродни, сам он от нас ускользает; второй, изображая объект, вместе с тем и себя самого делает его отражением. Применимая к самой поэзии, эта противоположность проникает и в критику; также и характеру нового человека свойственна та черта, что ом, как правило, при отсутствии чувствительности у поэта, остается холодным (объект должен раньше пройти через рефлексию, чтобы оказать на него действие); его даже возмущает в поэте именно то, что является высшей силой всякой поэзии,— предоставлять действовать лишь самому объекту.
Уже из исследования Шиллера ясно, что основная черта нового времени в противоположность античности заключается в сентиментальности. Но что это утверждение во всяком случае подлежит ограничению, на это указывает то единственное исключение, которое приводит и Шиллер,— т. е. Шекспир. Что касается Шекспира, то с ним дело обстоит так же, как в отношении прежней противоположности сознательной и бессознательной стороны. До совершенной неразличимости наивного и сентиментального (как я уже отмечал, что-нибудь наивное в свою очередь наивно, собственно, только для сентиментального наблюдателя), пожалуй, вообще не доходил никто из новых авторов, следовательно и Шекспир. Основание, исходная точка здесь всегда заключается в противоположности субъекта и
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2014-12-24; Просмотров: 365; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!