
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Wie sag’ ich’s meinem Kinde?! 4 страница
|
|
|
|
Конечно, мне не жаль.
Я его очень люблю.
Хотя «Амок» меня разочаровал.
{84} И неудивительно: прежде чем прочесть его, я его слышал в детальнейшем пересказе… Бабеля.
И, боже мой, каким слабым отражением этого поразительного сказа показался подлинный «Амок»!
Рассказ я слышу вечером. На закате, на верхней веранде той дачи в Немчиновке, где я в верхнем этаже работал с Агаджановой над сценарием «Пятого года», в нижнем — с Бабелем над сценарием… «Бени Крика»…
В перерывах объедаюсь мочеными яблоками, несущими аромат и прохладу из маленького ледника тут же в саду.
Почему «Беня Крик»?
Мой предприимчивый директор Капчинский полагал, что, работая в Одессе над южными эпизодами «Пятого года», я между делом сниму… «Беню Крика»[xciii]!
А в угловой беседке пили «зубровку» с Казимиром Малевичем, наезжавшим из города.
Упираясь кулаком в землю, он дивно рассказывал о монументальной потенции ослов.
Но, конечно, самыми удивительными были рассказы Бабеля.
И, черт его знает, на ловца и зверь бежит!
Кому же еще, как не Бабелю, встретить вечером по пути от станции Немчинов пост до дачи костер…
У костра — еврей…
у еврея виолончель…
Одинокий еврей играет на виолончели… у костра… в перелеске около станции Немчинов пост…
А потом Бабель рассказывает своими словами «Амок» и все стоит живое перед глазами: и ослепительная тропическая лунная ночь на палубе, и удивительная женщина, и аборт в грязной дыре предместья Калькутты, и трап, проваливающийся вместе с гробом в море, и ужасная грусть заштатного доктора, заброшенного в Индию.
Там же, между делом, кропаю «Базар похоти» и «загоняю» в Пролеткино под псевдонимом… Тарас Немчинов[xciv].
Немчинов — понятно.
А Тарас — в порядке протеста против того, что Гришка, родив сына, называет его Дугласом (ныне это долговязый лейтенант второй Отечественной войны), я настаиваю на Тарасе[xcv]!
История с «Марией» Бабеля. Мы никогда не сказали друг другу ни слова о ней. Но это было значительно позже[xcvi].
{85} А здесь, на даче в Немчиновке, я впервые узнал от него о Стефане Цвейге.
Потом получил от него письмо о работе над «Фуше».
Потом приглашение встретиться в Вене и вместе посетить Зигмунда Фрейда.
Приехать не удалось.
Больше не встречались.
Потеряли друг друга из виду.
В сорок втором году он покончил самоубийством в Бразилии.
Вместе с женой, открыв газовый рожок.
Эрнст Толлер повесился в 19[39] году.
Толлера встретил впервые в 1929 году в Берлине.
«Человек-масса» меня никогда не увлекал.
Зато «Эугена несчастного» считаю за великое произведение.
Толлера тоже смутил, [как и Цвейга].
Принимал он меня в своих маленьких, чистеньких и чуть-чуть по-дамски слащавых комнатках.
Широким жестом: «Берите любое на память».
Что взять? Ничего не взять — обидеть…
На стене два ранних литографированных Домье — не очень хороших — в узеньких золоченых рамочках.
Чашку?
Какие-то вазочки?
Ищу того, что в этих комнатах в двойном комплекте…
Есть!
Мексиканский всадник — плетеная мексиканская игрушка, по фактуре и технике плетения похожая на наш российский лапоть.
Беру.
Через некоторое время оказывается ужасный конфуз.
Всадник принадлежал Елизавете Бергнер.
Удивительно — в дальнейшем пробыл в Мексике четырнадцать месяцев!
А из плетеных игрушек привез только толлеровского всадника…
Правда, еще крокодила, которого подарил Капице.
Он собирает крокодилов во всех видах — вторит в этом Резерфорду.
Pulgas vestidas[xcvii]. Лубки Хосе Гуадалупе Посады и многое-многое другое. Но из плетеных игрушек только всадника Толлера — Бергнер!
{86} Игрушки[xcviii]
Детский рай — угловой магазин Фиреке.
Нюрнбергские оловянные (плоские) солдатики в лубяных коробочках.
«Индусские войска».
«Джунгли».
«Индейцы».
«Наполеоновские войска».
Особая прелесть — громадный ящик «лома», откуда можно было покупать поштучно.
Пейзажи на столах. Сложнейшие планировочные маневры в этих пейзажных моделях.
Любимцы. Плывущий индеец (полфигуры) — «Пенкрофф».
«Хэмпти-Дэмпти-серкес»[xcix] — «членистоногие» игрушки, особенно любимые. Осел и клоун, которых можно заставлять принимать любые положения.
Андрей Мелентьевич (Андрюша) Марков — сын Мелентия Феодосиевича Маркова, начальника Риго-Орловской железной дороги.
Дружба по Риге.
Перевод их в Петербург.
Казенная квартира в здании Николаевского вокзала.
Около выходной арки слева (к Старому Невскому) — большая комната с антресолями.
Антресоли сплошь засыпаны песком, и разбита головокружительная сеть игрушечной железной дороги.
Стрелки. Семафоры. Мосты через речки из стекла, покрывающего голубую бумагу. Станции. Фонари.
Техника меня никогда не увлекала. Я никогда не вспарывал часы.
Вероятно, потому я так люблю «технику» в другой области — в искусстве — и так люблю вспарывать психологические проблемы, {87} связанные с искусством.
В играх с Андрюшей я всегда играл комическим пассажиром (из первой попавшейся игрушечной фигурки), который неизменно опаздывает к отходу поезда, попадает под колеса, путает стрелки и ведет себя как рыжий «у ковра», стараясь по рельсам догнать «курьерский поезд» и путая все на свете.
Другой приятель — француз, уже ни имени, ни фамилии не помню, — сын владельца фабрики стальных перьев.
Ритм «грохотов», смешивающих готовые перья с жирными опилками, дабы не ржавел готовый продукт, — никогда не забуду. Хотя это и есть причина, почему свежие «жирные» перья сразу не пишут, не держат чернил.
Папаша-фабрикант, рыжий, толстый, щетинистый, похож на очень потолстевшего и разросшегося Золя зрелого возраста.
Трио воскресных спектаклей: он, Алеша Бертельс и я.
Хэппи эндинг[57] одного из них.
Алеша en travesti[58].
Француз — английским «бобби». И я почему-то фантастическим… раввином (!) венчаю их.

{88} Имена[c]

Чуковский где-то очень давно и очень остроумно защищает футуристов.
Он находит ту же абстрактную прелесть «дыр бул щир»’а[ci] (еще было хорошее: «Чеку вам бумбырь»), что мы находим в перечислении имен индейских племен у Лонгфелло — тоже абсолютно лишенных для нас смысла и прельстительных только своими ритмическими и фонетическими чертами (в «Гайавате»:
«… Шли команчи и…» etc.).
Иногда, вспоминая, тоже впадаешь в вовсе отвлеченное любование фамилиями и именами.
Пансион Коппитц.
Игрушша (онемеченное произношение имени Игорь) и Арсик (от Арсения — порочное, просфировидное, белощекое, капризное существо — сверстник) из Москвы.
Фрау Шауб с собачкой и краснощекий в коротких штанишках с голыми коленями — Толя Шауб.
Эсфира и Фрида.
Мака и Биба Штраух[cii].
Архитектор Фелско из Риги с дочерью, стареющей девой. И господин Торкияни, на третье лето венчающийся с нею. Фрау Фриск из Норвегии, со странно крупными серьгами, брошками, кольцами.
Сапико‑и‑Сарралукки — испанский консул.
{89} Музис[ciii]
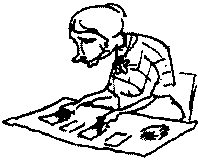
У околоточного надзирателя может быть самая неожиданная фамилия.
Особенно если он в Риге.
Ну кто, например, подумает, что у околоточного надзирателя может быть фамилия… Музис.
А между тем это именно так.
Отца моего школьного товарища — околоточного надзирателя — зовут Музис. Музис — объект моей зависти.
У Музиса — толстая, засаленная, набитая бумажками и записками — записная книжка с резинкой!
Вероятно, у Музисов это наследственная черта.
Так и вижу перед духовным взором своим папашу Музиса со своей засаленной записной книжкой во время обыска, ареста или «составления протокола».
Мой отец — архитектор.
И о нем вспоминаю чертежами, blue prints’ами[59], лекалами, рейсшинами, транспортирами и рейсфедерами.
Но никак не записными книжками.
Наследственности в области записных книжек у меня нет.
Очень завидую Музису.
Зависть живет до сих пор.
Не то чтобы у меня никогда не было книжек.
Даже в школе у меня бывали ежегодно новые книжечки с тисненной золотом надписью на обложке «Товарищ»: так называлась тогда общероссийская записная книжка гимназиста и школьника.
Кроме того, ежегодно появлялся и чисто прибалтийский немецкий «Jugendkalender»[60].
{90} Русско-немецкое смешение культуры характерно этими двумя книжечками, а во второй из них даже были стишки на эту тему.
Удивительно, как в памяти сохраняется всякая дрянь!
Впрочем, эта дрянь здесь к месту, потому что она целиком относится к моей биографии:
«… In город Riga я родился,
Erblickte ich das Licht der Welt,
И долго там я находился,
Weil’s mir ужасно da gefällt…»[61].
Находился я в Риге действительно довольно долго, но не потому, что мне там особенно нравилось.
А потому, что папенька там служили старшим инженером по дорожной части Лифляндской губернии и занимались обширной архитектурно-строительной практикой.
Число построенных папенькой в Риге домов достигло, кажется, пятидесяти трех.
И есть целая улица, застроенная бешеным «стиль-модерном», которым увлекался мой дорогой родитель.
[Называлась] на двух рижских языках: Альбертовская улица — Albertstrasse.
С записными книжками была беда в другом.
Я никогда не умел и до сих пор не умею ими пользоваться.
Мне нечего было в них писать и записывать!
Горе продолжается и по сей день.
Нужное я всегда помню.
Необходимое лежит заметками в папках, и чего-нибудь специального для записи в книжку я никак не могу придумать.
Зато папки — ужас мой и смерть.
Их много.
Без конца.
И в каждой — «подборка» на какую-нибудь тему, Belegmaterial[62] на какую-нибудь бредовую мысль или мимолетное соображение.
Очень часто случается, что папка «ломится» от материала «доказательного» и «показательного» (иллюстративного), а тему, {91} для которой это собиралось (иногда годами!), я возьму да и…
забуду.
Надо было бы сделать «инвентарь» недодуманного и недописанного на сей день.
Своеобразный каталог моих обязательств перед самим собой.
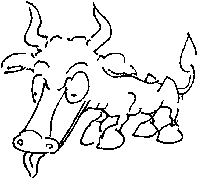
{92} Мадам Гильбер[civ]
«Tu est folle, Yvette[63]: тебя освищут», — говорит ей Сарду.
У нее рискованная мысль: в песенке, где падает голова убийцы с гильотины, она задумала ронять кепку с куском свинца, в которой она ее исполняет.
«Глухой звук свинца о подмостки даст нужный акцент упавшей головы…»
Она, конечно, не послушала Сарду. И публика в порыве восторга разнесла скамьи…
Париж. 1930 год. Мадам Иветт Гильбер мне сама рассказывает об этом.
Почему я в Париже?
На пути в Америку.
Почему у мадам Иветт?
Потому что безумно томлюсь в Париже от свежей весны, переходящей к пыльному лету.
Отдушины — предзакатные прогулки на Иль Сен-Луи[cv], мимо домов, кажущихся декорациями к «Сирано де Бержераку», хотя они и подлинные отели по типу тех, что овеяны романтикой тройки мушкетеров или великосветской неприступности, в которую проникает более поздний представитель юношеских идеалов — Рокамболь[cvi].
Бал-мюзетт.
Парижскую пыль я помню с раннего детства — с первого посещения этого дивного города. Тогда мне было лет девять. Мы путешествовали: Monsieur, Madame et bébé (то есть я с папой, мамой и гувернанткой).
Воспоминания той поездки весьма односторонни.
Иветт!
Мне трудно вспомнить, когда именно как символ Парижа вы {93} вошли в мечты кудрявого благовоспитанного рижского мальчика с локонами и кружевным воротничком à la лорд Фаунтлерой[cvii].
Ваш облик, вероятнее всего, завез мой папá.
Папá, неизменно летом ездивший в Париж. Привозивший вороха… articles parisiens[64] друзьям и знакомым. Открытки с Отеро и Клео де Мерод. С альбомами фотопоз признанных красавиц, с альбомами, где в последовательности фотопоз развертывались чуть-чуть скабрезные и очень сентиментальные перипетии девических судеб — будущее кино! Альбомы, полные видов Ниццы, подкрашенных голубой акварелью вверху и розовой внизу.
Папá, любивший пестрые галстуки.
Папá, в Мэзон de blanc[65] увидевший великолепный гофрированный галстук. Зашедший его купить. Не хотевший брать… два.
И лишь на вопрос: «А разве у вашей дамы только одна нога?» — сообразивший, что за галстук он принял подвязку.
Папá — один из самых цветистых представителей архитектурного декаданса, стиля модерн.
Папá — безудержный прозелит de l’art pompier[66].
Pompeux in his behaviour[67].
Арривист[68].
Селфмэйдмен.
С претензией на австрийский титул по случаю случайного созвучия фамилии с каким-то замком.
Папá — опора церкви и самодержавия. Действительный статский советник по ведомству императрицы Марии[cviii].
Папá — о сорока парах лаковых ботинок, с каталогом-списком, где поименованы приметы: «с царапиной» etc. С курьером Озолсом в мундире, подававшем по списку желанную пару из подобия многоярусного крольчатника, подвешенного в коридоре.
Папá — растягивавший человеческие профили на высоту полутора этажей в отделке углов зданий.
Вытягивавший руки женщин, сделанных из железа водосточных {94} труб, под прямым углом к зданию [и] с золотыми кольцами в руках. Как интересно стекали дождевые воды по их жестяным промежностям.
Папá — победно взвивавший в небо хвосты штукатурных львов — lions de plâtre, нагромождаемых на верха домов.
Папá — сам lion de plâtre. Тщеславный, мелкий, непомерно толстый, трудолюбивый, несчастный, разорившийся, но не покидавший белых перчаток (в будни!) и идеального крахмала воротничков. И мне по наследству передавший болезненную страсть к накруту — я чем мог старался сублимировать ее хотя бы в увлеченье[69] католическим барокко и витиеватостью ацтеков.
Папá — вселивший в меня весь костер мелкобуржуазных страстишек нувориша и не сумевший учесть того, что в порядке эдиповского протеста я, неся их, буду их ненавидеть. И не упиваться незримо ими, но разъедать их упоение холодным глазом аналиста и учетчика.
Папá — увесивший столовую бесчисленными блюдами, подвешенными на проволочных «пауках» поверх цветных фоторепродукций… боярских свадеб Маковского!!.
Папá — ну ладно!..
Не об отцах и детях речь. И не счет-синодик хочу я здесь предъявлять покойному папаше — типичному хаус-тирану[70] и рабу толстовского комильфо[71].
Но любопытно, что, верно, с ним у меня связан протест против «принятого» в поведении и в искусстве, презрение к начальству.
И… уход в искусство в тот самый день и час, когда он умер в Берлине!
А узнал я об этом совпадении… года три спустя[cix]!
Но я начинаю писать белым стихом. Надо кончать.
{95} Воинжи[cx]
Отгадайте происхождение названия города Анжеро-Судженска.
Трудно?
Я вам подскажу: был такой городок, где на строительных работах подвизались осужденные.
В одной части жили инженеры, в другой — осужденные.
Городу понадобилось имя.
Имя родилось само собой.
Инженеры — анженеры.
Отсюда — Анжеро.
В другой части жили осужденные.
Отсюда — Судженск.
Теперь легко понять, что эти заметки будут касаться военных инженеров, в 1918 году они обозначались «воинжами».
Обожаю высокий класс профессионализма.
Все равно, скоблит ли мне подбородок опытный брадобрей.
Работает ли на трапеции циркач.
Кует ли опытный кузнец.
Делает ли перевязку опытная сестра.
Или действует ли ланцетом хороший хирург.
С каких пор зародилась эта любовь, сказать трудно.
Но увлечение блеском совершенства инженерного дела — несомненно связано у меня с памятью о Сергее Николаевиче Пейче.
Даже «Э оборотное» моей подписи хранит в своем очертании некое отдаленное воспоминание о динамичном его «П», изогнутом дугою.
И сколько раз я повторял его неизменную резолюцию на бездарных проектах размещения укреплений вокруг Гатчины, Двинска[cxi], Холма или Няндомы, изъезженных вместе с ним фронтов с 1918 по 1920 год:
«Чтобы быть инженером, мало одного желания».
{96} Вожега[cxii]
Вологодские избы — скот над жилым помещением.
Полушубки и полосатые сарафаны.
«Маскарады» — девки одеваются мужиками.
The important part made out of carrots[72].
Выражение «посестры» — Geschwister.
Двухэтажный дом, где я живу.
Печеные рябчики в глине — в русскую печь. Цыплята в перце в Пуэбло[cxiii] так же чисты.
Мороженое молоко «стрелками».
Мороженая клюква.
Мороженые… нечистоты.
Нечистоты растут ледяным столбом во второй этаж.
Подпиливаются и увозятся в поле.
Клопы.
Замазанные мылом щели.
Неприспособленность [моя] к жизни.
Униженное состояние.
Семья кладовщика Романова.
Он сам — home tyrant[73] — [у него] все есть (еще бы — [«сел»] на гвозди, соль, фанеру!). Оспенное лицо, шаркающие глазки, грязного цвета усы.
Хожу за водой с его ведром к обледеневшему колодцу.
Роняю ведро слишком быстро.
Лед пробивает дно.
Читая одну из мучительнейших сцен у Достоевского, — «Исповедь» Ипполита и неудачное самоубийство[cxiv], — вспоминаю ту степень униженности, с которой я нес продырявленное ведро Романову. Бррр!.. Never again to be reduced to that!..[74]
{97} Как Достоевский умеет выражать беспредельность постыдности и стыда!
Американские ботинки «бокс» с [выпуклыми] носками. Получили из Няндомы (трофеи).
Пляс железнодорожников из «депа», дондеже [75] не треснут.
Трескаются вдребезги…
Поезд на Вологду. Охотно вожу туда пакеты, чтобы посмотреть фрески в церквах. Прилуцкий монастырь.
Посадка ночью.
При свечке, среди груд мешочников, в ожидании читаю…
«Итальянские новеллы» (в издании Муратова[cxv])!
Скитания по церквам. Состояние церквей.
Ревнители вологодской старины.
Комбинационные замки в церковных дверях.
Разрешение спать в «штабном вагоне» на путях. Комендант станции.
Станция Вологда. Давка. My trip to Moscow[76]. Я передаю узелок — за это все мои четырнадцать мест. Яйца сотнями[cxvi].
Я живу на путях в Смоленске. Поиски вагонов среди сотен эшелонов. Догадываюсь с моста, привязав [к вагону] палку-флажок…
Образ самого страшного: последний вагон идущего задом на вас длиннейшего эшелона. Неизбежность и неумолимость[cxvii].
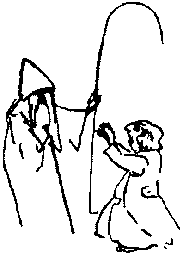
{98} Мертвые души[cxviii]
Детективный роман знает целый ряд классических типовых ситуаций.
Одна из очень известных — это убийство внутри наглухо закрытого изнутри помещения.
Дверь заперта. Ключ в замке с внутренней стороны. Шпингалеты окон не тронуты. Других выходов нет.
В комнате лежит зарезанный человек, а убийца исчез.
Это тип ситуации «Двойного убийства на улице Морг» Эдгара По (или «улице Трианон», как обозначен первый вариант в черновой рукописи).
На этом же держится «Тайна желтой комнаты» Гастона Леру.
И в более позднее время — «Дело об убийстве Канарейки» («The Canary murder case») С. С. Ван-Дайна.
Психоаналитики возводят корни этой ситуации к «воспоминаниям» об «утробной» стадии нашего бытия[77].
Количество безысходно запираемых, замуровываемых, заключенных в каменные мешки в творчестве Э. По действительно очень велико.
И «Бочка Амонтильядо», и «Черный кот», и «Сердце-обличитель» (с трупом старика под полом), и «Колодец и маятник»…
И все они имеют всеобщую пугающую привлекательность жути.
(Вспомним хотя бы роль «Сердца-обличителя» в истории замысла «Преступления и наказания» Достоевского[cxix].) Отто Ранк видит такой же образ «заключенности в утробе» и «выхода на свет» в древнейшем мифе о Минотавре (Otto Rank. «Das Trauma der Geburt»[78]).
Роль выхода на свет божий в более современных деривативах {99} этого мифа играет уже не столько ситуация, посредством которой злоумышленнику удалось выйти из невозможной обстановки, сколько путь, которым истину на свет божий выводит сыщик, то есть ситуация как бы работает на двух уровнях.
Непосредственно и переносно-транспонированно из ситуации в принцип.
При этом мы видим, что вторая часть — ситуация, транспонированная в принцип, может свободно существовать и помимо самой первичной «исходной» ситуации.
Больше того, в таком виде — в качестве принципа — она имеет место во всяком детективном романе, ибо всякий детектив сводится к тому, что из «лабиринта» заблуждений, ложных истолкований и тупиков, наконец, «на свет божий» выводится истинная картина преступления.
И таким образом детектив как жанровая разновидность литературы во всяком своем биде исторически примыкает к мифу о Минотавре и через него к тем первичным комплексам, для образного выражения которых этот миф служит.
Не следует только забывать, что древний миф не есть аллегория. Аллегория состоит в том, что абстрагированное представление умышленно и произвольно одевается в образные формы. Тогда как миф есть образная форма выражения — единственно доступное средство «освоения» и выражения для сознания, которое еще не достигло стадии абстрагирования представлений в формулированные понятия.
Если мы вспомним, как часта аллегория об истине, сидящей в колодце и поднимаемой на «свет божий», то мы увидим, что сам традиционный образ раскрытия истины как таковой и по самостоятельной ветви тянется к той же «утробной» символике. И это только подкрепляет наши соображения.
Вполне последовательно и эволюционно очень красив тот факт, что исторически первый чистый образец жанра (наравне с «Похищенным письмом» того же автора) — «Убийство на улице Морг» дает одновременно как принцип, так и его непосредственное предметное (ситуационное) воплощение.
Таким образом, предпосылочный фонд воздействия остается за ситуацией «выхода на свет божий» («вывода»), а надстроечно на нем разрабатываются более или менее остроумные пути этого выхода (интересно, что и в этой части в термине «распутывания клубка» интриги мы имеем тот же мотив «нити», с помощью которой герой выбирается из «лабиринта»[cxx]!)
{100} Э. По, как известно, отдает дело убийства в руки обезьяны, способной выбраться сквозь недоступный человеку дымоход[cxxi].
Гастон Леру, окружив отца жертвы — профессора Стангерсона — опытами и проблемами «дезинтеграции материи», как бы намекая на «растворение» преступника, дает другое остроумнейшее решение.
Преступник исчезает потому, что им является… сыщик, в которого он в нужный момент и превращается.
У Ван-Дайна преступник уходит раньше, оставив в комнате заглушенно говорящую граммофонную пластинку, которую служащий отеля принимает за голос находящихся в комнате уже после того, как «Канарейка» — шантанная певица — уже зарезана.
Что же касается объяснения трюка с закрытой изнутри дверью, то… мы воздержимся здесь его рассказывать: не будем лишать удовольствия тех, кому вздумается прочитать этот роман после описанного здесь!
Тем более что все сказанное об абсолютной невозможности и безвыходности ситуации, из которой все же выходят, есть здесь не более как ввод к подобной же обстановке в практической действительности, свидетелем которой я был. Ключ и разгадку которой я знаю. И которая имеет весь аромат детективной ситуации, даже зерном своим имея систематическое мошенничество!
Весною 1920 года в помещении бывшего кинотеатра города Великие Луки, наискосок от театра, где мы играли «Марата» и «Взятие Бастилии»[cxxii], слушалось революционным трибуналом дело старшего производителя работ — из студентов старшего курса Института гражданских инженеров — Овчинникова.
На окрестных участках N‑ского военного строительства N‑ского фронта явно имелись крупнейшие злоупотребления.
Наличие денег и уровень бытового благополучия инженерно-технического состава наглядно и явно превосходил скромные размеры окладов жалованья и отпускаемых им пайков.
Какого-либо особого злого умысла против советского строя эти злоупотребления не несли.
Они были просто-напросто в методах и традициях обычной наживы на строительстве мостов, дорог, казенных построек или фортификационных работ, несших «естественную» наживу техническому и инженерному составу при царском режиме.
В отличие от этих традиций молодая советская власть смотрела на подобную наживу несколько иначе.
{101} Тем более в обстановке гражданской войны.
Злоупотребления предполагалось искоренять.
И стараниями кладовщика Дауде и молодого конторщика (почему-то с итальянской фамилией! — которую я забыл) было поднято дело против Овчинникова.
Я сидел в последних рядах полутемного зала, где слушалось дело.
«Кастовая тайна» техники злоупотребления по методу «мертвых душ» свято хранилась участниками.
Настолько, что даже от меня, молодого техника, на долгие месяцы была совершенно скрыта эта методика, хотя по должности и я неизменно присутствовал на выплатах денег окрестному населению за произведенные окопные работы в нашем районе.
Суд окончился провалом обвинения, не умевшего разобраться в истинном положении вещей, сбившегося на тему «взяток» и «откупов» от работы.
Вопиющим фактом, подобно тени отца Гамлета, в зале витал призрак зарезанной коровы, якобы в порядке взятки поднесенной Овчинникову за незаконное освобождение от работ.
Призрак коровы взывал к мести.
Однако мгновенно рассеялся в дым, как только было доказано, что туша была по всей форме оплачена.
Гнев председателя трибунала, бледного рыжеватого человека, с острыми глубоко посаженными глазами, в темной гимнастерке, обрушился с такой яростью на осрамившееся обвинение, что вопрос о происхождении средств на оплату коровы даже не всплыл.
То же самое произошло и с двумя мешками муки, и молодые люди, поднявшие дело о злоупотреблении своих начальников, сами еле‑еле выскочили из-под обвинения в клевете.
То же самое с предположением о ложных доверенностях или подставных лицах, получающих зарплату.
«Технику» дела я к этому времени уже знал, и хотя Овчинников принадлежал к другому участку работ, вряд ли она у него отличалась чем-либо иным, чем у нас.
Было поразительно смотреть, как от неведения окончательно скисло дело и под дружное одобрение зала оправданный Овчинников торжествующе выходил на улицу.
Какова же сама «техника»?
Прежде всего, надо знать обстановку выплаты.
{102} В смысле гарантии от злоупотреблении она такая же неприступная крепость с наглухо закрытыми дверьми и окнами, откуда так же невозможно выбраться, как из «Желтой комнаты» Леру или номера гостиницы убитой «Канарейки».
На выплате присутствуют:
производитель работ,
табельщик,
техник,
кассир,
приезжий представитель Госконтроля, объезжающий участки и непременно присутствующий на выплатах,
человека два «понятых» от получающих деньги.
Порядок такой:
Платежная комиссия усаживается за стол.
Кассир просчитывает деньги.
Сумма протоколируется.
Начинается выплата.
Очередью подходят работавшие.
Их обыкновенно сотни.
Называют фамилии.
Проверяется документ.
Табельщик находит в ведомости фамилию. Ставит «птичку».
«Птичку» во второй ведомости ставит и техник.
Человек получает деньги.
Уходит.
Выплата длится часов пять-шесть.
Выплата окончена.
Не сходя с места, производится подсчет выплаченной суммы.
Актируется.
Тут же проверяется остаток денег у кассира.
Данные совпадают.
Факт актируется.
К ведомости прикладывают руку производитель работ, табельщик, техник, кассир!
Понятые ставят свои кресты[cxxiii].
И все заверяется представителем государственного контроля…
Казалось бы, где же тут место злоупотреблениям?
А между тем во время этой операции примерно двадцать процентов суммы (ниже будет понятно, почему именно двадцать) выплаты незримо переходят в карман «заинтересованных лиц».
Есть два вида игры.
{103} С участием контролера.
И без участия контролера.
У нас на участке было их двое.
Одного я помню только по имени-отчеству.
Сергей Николаевич.
Он был как будто в частной жизни юристом.
В нашем спектакле «Взятие Бастилии» играл рыжего аристократа, язвительно реагирующего на пламенные речи Камиля Демулена.
И ни в какие сделки с инженерами вступать не соглашался.
Второго помню только по фамилии, бледному цвету лица, бесцветно серым усам, слегка вьющимся волосам и благородству осанки.
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 474; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!