
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Wie sag’ ich’s meinem Kinde?! 5 страница
|
|
|
|
Звали его Лисянским.
И участвовал он во всем за милую душу.
Интересен, конечно, первый случай.
Сама «операция» требует большой сноровки.
Прекрасной согласованности действий.
Умелости рук.
Памяти.
Среди сотен подлинных участников работ просеяно «мертвых душ» процентов на двадцать (почему именно на двадцать, станет ясным ниже).
Точную сумму, «заработанную» мертвыми душами, знает кассир.
Задача табельщика и кассира — по ходу выплаты, в обстановке горячки, которая неизбежно создается, когда деньги переходят из рук в руки — сводится к тому, чтобы провести параллельно «вторую выплату».
Другими словами:
Табельщику — успеть «наставить птичек» между реальными фамилиями и против всех фиктивных; кассиру — вначале выплаты проверенной суммы «вынуть» нужную дополнительную;
от табельщика и техника (держащего вторую ведомость и тоже участвующего в игре) требуется великолепная память на размещение душ «мертвых» среди душ живых; от кассира — ловкость рук ярмарочного фокусника.
Кассир Козелло, отец двух очаровательных девочек, делал это блестяще.
Позже он умер от тифа.
Чтобы не сбиться, табельщик Дмитриев погружал во внутрь {104} реального списка — список фамилий своих бывших школьных товарищей!
Очевидно, что при такой технике концы с концами неминуемо сходятся.
Остается ли какая-либо возможность накрыть это дело?
Конечно, остается.
Помощь со стороны графа де Рошфора. Это не тот Рошфор, который издавал бесподобный «Фонарь» — памфлетный журнал против Наполеона III. Двадцать первых номеров этого прелестного издания я в один из первых дней пребывания в Париже разыскал в подвале у кого-то из букинистов. Помимо блеска самих памфлетов с непревзойденной игрой слов в первой строчке первого номера[cxxiv], очаровательны пути контрабанды, которыми Рошфор переправлял свое нелегальное издание из Бельгии в Париж.
Nec plus ultra[79] в этом смысле была отправка номеров очередного журнала из Бельгии, где он печатался одно время (он очень маленького формата), внутри гипсовых бюстов, изображавших самого императора[80].
Однако не этого Рошфора я здесь имею в виду. А графа — автора небезызвестного «Урочного положения».
Согласно сему положению назначались (и, кажется, до сих пор назначаются) нормы выработки.
Достаточно проверить на месте количество произведенных земляных работ, в нашем случае — погонную длину вырытых окопов, чтобы установить, какое действительное количество человек действительно работало.
А между тем на вверенных моему начальству участках можно было промерять окопы любым аршином — от приблизительного трехшажного измерения со счетом раз‑ай‑ай, два‑ай‑ай до точного рулеточного — и количество выполненной работы всегда и неизменно совпадало бы с количеством значившейся на бумаге «рабочей силы».
Недостачи двадцати процентов погонных саженей окопов, равной количеству «припека» в ведомости, нельзя было бы обнаружить нигде.
{105} Где же ключ к этой «второй линии» обороны безнаказанности злоупотреблений?
«Недобор» в исполненной работе был бы слишком явным и опасным доказательством.
И тут-то раскрывается «тайна» тех именно двадцати процентов, о которых я дважды упоминал по «ходу действия».
Дело в том, что в связи с военной обстановкой нормы «Урочного положения» графа де Рошфора были приказом свыше снижены на двадцать процентов.
И это снижение просто не проводилось в жизнь!
В отчетности выработка представлялась с законным снижением.
На деле применялись прежние нормы!
А «разница» и составляла основу благополучия.
Такова была «техника» при контролере, не участвовавшем в игре.
При контролере-участнике все облегчалось, и игра становилась… «детскими игрушками».
Добавочные «птички» выставлялись вечером после выплаты, за чаем.
А все необходимое «актировалось» вслепую за соответствующую мзду.
Неподатливых контролеров «воспитывали», точнее «наказывали».
Сергея Николаевича, продрогшего и промокшего, десятки километров протрясшегося по проселкам на подводах, немедленно засаживали за выплаты.
Ни чаю, ни сахару, ни ужина, ни ночлега ему не выдавалось.
Постели ему никто не предлагал.
И он, мокрый, голодный, пахнущий псиной, спал на столах в конторе, прикрываясь шинелью, с одной чистой совестью в качестве подушки под головой!
{106} Двинск[cxxv]
О кроватях.
Мировая литература знает два превосходных высказывания о кроватях.
Одно из них в книге Граучо Маркса, так и названной «Кровати».
Именно в этой книге имеется знаменитая глава, достойная Тристрама Шенди[cxxvi], состоящая из заглавия на пустой белой странице и авторской сноски к заглавию.
Это первая глава книги под общим заголовком: «О преимуществах спать в одиночку».
Авторская сноска под пустой страницей, отведенной этой главе, гласит: «Автор не пожелал высказываться на эту тему».
О чем говорят последующие главы, легко догадаться.
Другое высказывание принадлежит Мопассану.
Оно не из книги, а из маленького очерка под таким же заглавием — «Кровати».
Там проводится прелестная мысль о том, что кровать — истиннейшее поле деятельности человека: здесь он родится, любит, умирает.
Кровать именно удел человека.
И даже богу недоступно это завоевание человека.
Боги — сказано в этом очерке — родятся в яслях и умирают на крестах.
… В Двинске я сплю на поверхности зеркала.
В отведенной наспех квартире — после занятия Двинска Красной Армией — не сохранилось кроватей. (Времянки-топчаны еще не готовы.)
Но зато горделиво в пустой комнате стоит зеркальный шкаф.
Шкаф ложится на спину.
На зеркальную поверхность его дверцы, отражающей мир, ложится соломенный матрас.
{107} На матрас — я.
Боже мой, как хочется из этого сделать метафорическое осмысление или образ!
Ничего не выходит.
Так и оставим себя лежать на соломенном матрасе, [помещенном] между мной и зеркальной гладью дверцы шкафа…
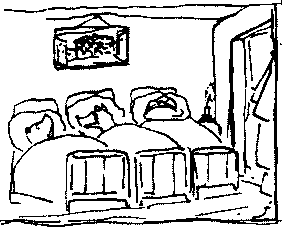
{108} [Ночь в Минске][cxxvii]
Помню ночь в Минске. Второй год — фронт.
Политуправление Западного фронта.
Художник передвижных фронтовых трупп, всклокоченный, катается по постели. Художнику надо предпринять самое неприятное в жизни — надо принимать кардинальное решение, чем быть и как быть. Я знаю, как художнику трудно. Но художник этот — я.
Бессонная ночь.
Я лихорадочно катаюсь по постели.
Рядом на столе бумага.
Решение Совета Народных Комиссаров. Студенты могут вернуться.
Получена днем.
Вызов в институт в Петроград.
И в этот же день полученное от начальства разрешение ехать в… Москву.
Я заслужил (роспись вагонов, походная складная сцена[cxxviii]).
Там институт.
Здесь… отделение восточных языков. Одна тысяча японских слов. Сто иероглифов[cxxix].
Институт?
Стабильный быт?
Немного жаль сил, положенных на институт. Сдана вся высшая математика. Вплоть до интегрированных дифференциальных уравнений. (Как благодарен я математике за дисциплину!)
Но мне так хочется видеть со временем японский театр.
Я готов еще зубрить и зубрить слова. И эти удивительные фразы другого мышления.
До этого [хочу увидеть] — театры московские.
{109} Поломан путь, заботливо предначертанный отеческой рукой.
К утру решение готово.
Хомут порван.
Жребий брошен.
Брошен институт.
Называйте мистикой.
Но я порываю с прошлым, когда отец недостижимо далеко умирает от разрыва сердца.
О совпадении дат я узнаю одновременно с известием о смерти два года спустя.
К окончанию гражданской войны, раскидавшей нас интервентами и разрухой в разные концы Российской империи.
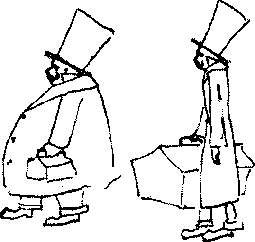
{110} Нунэ[cxxx]
Я до сих пор не могу без волнения читать в чужих биографиях о том единственном в биографии неповторимом моменте, который заключен в магических словах: «… и наутро проснулся знаменитым»[cxxxi].
Когда-то в порядке мечты и зависти. Сейчас… приятно вспомнить.
Все равно, биография ли это Золя, который утром после выхода первого романа в ночных туфлях бежит купить на углу газету и обескуражен тем, что нет отзыва на должном месте. А потом выясняется, что есть. Что есть! И на самом недолжном месте: на первой странице!
«… и наутро проснулся я знаменитым».
Или это же в биографии Жоржа Антейля: успех первого концерта, или, точнее, о первом успехе концерта.
«… и наутро проснулся знаменитым», —
тянется непременный рефрен.
Так было и дальше с премьерой «Потемкина» в Берлине[cxxxii].
Фильм показан в маленьком кино на Фридрихштрассе.
Смутные слухи о «Bombenerfolg’е»[81] летят в Москву.
Немцы тогда меньше занимались бомбами как таковыми.
Телеграммы из Берлина.
Немедленно ехать.
Рейнхардт упоен.
Аста Нильсен.
Готовится ночное гала-представление.
С Фридрихштрассе фильм переехал в самый центр — на Курфюрстендамм.
Очереди.
Очереди.
{111} Все распродано.
Фильм идет не в одном театре.
Уже в двенадцати.
Газеты трубят: «… и наутро проснулся…»
В Берлин не попадаю.
Поездом не поспеть на гала-представление.
Самолетом невозможно.
Виновато… Ковно.
В Ковно размыло аэродром:
весенняя распутица в 1926 году еще роковое явление и для воздушных путей.
Телеграммы. Телеграммы. Телеграммы.
Затем бум в Америке.
И опять: «… наутро он проснулся знаменитостью».
Очень упоительно просыпаться знаменитостью.
А потом пожинать плоды.
Быть приглашенным читать доклады в Буэнос-Айресе.
Оказаться известным в заброшенных серебряных рудниках где-то в Сьерра-Мадре, где показывали когда-то фильм рудокопам Мексики.
Быть заключенным в объятия неведомыми чудными людьми в рабочих окраинах Льежа, где тайком смотрели фильм.
Услышать от Альвареса дель Вайо еще в годы монархической Испании, как он сам контрабандой возил «Потемкина» в Мадрид.
Или внезапно в маленьком кафе Парижа узнать от случайных соседей по мраморному столику, двух смуглых восточных слушательниц Сорбонны, что «ваше имя очень хорошо известно у нас… на Яве»!
Или в другом — нелепом маленьком дансинге за чертой города — внезапно при выходе заработать горячее рукопожатие негра-официанта в благодарность за то, что делаешь на экране…
Приходя на теннис, быть встреченным возгласом Чаплина:
«Сейчас смотрел “Потемкина” — вы знаете, за пять лет ничуть не устарел! Все такой же!»
И все это как результат… трехмесячной (!) работы над фильмом. (Включая две недели на монтаж!)
Легко сейчас, двадцать лет спустя, перебирать в памяти засохшие лавровые листки.
Пожимать плечами над трехмесячным сроком самого рекорда.
{112} Важнее вспомнить преддверие самого нырка, из которого наш молодой коллектив вынырнул рекордсменами…
И тут прежде всего надо вспоминать и вспоминать дорогую Нунэ.
Чтобы не пугать читателя, скажем сразу, что Нунэ — это армянская форма имени Нина.
А сама Нунэ — Нина Фердинандовна Агаджанова.
Только что вышла «Стачка».
Нелепая. Остроугольная. Неожиданная. Залихватская.
И необычайно чреватая зародышами почти всего того, что проходит уже в зрелых формах через годы зрелой работы.
Типичная «первая работа» (вспомним «Звенигору» Довженко, «Шахматную горячку» Пудовкина или «Похождения Октябрины» авторов классической трилогии о Максиме Козинцева — Трауберга).
Картина вихраста и драчлива, как я сам в те далекие годы.
Вихрастость и драчливость перехлестывают через край картины.
Схватки с руководством Пролеткульта[cxxxiii] (картина ставилась под объединенной эгидой Госкино и Пролеткульта).
Во время сценария.
В период постановки.
После выхода картины.
Наконец, разрыв после пяти лет работы в Театре Пролеткульта и первых шагов в кино.
Полемика.
Неравный бой индивида и организации (еще не до конца развенчанной за претензии на монополию пролетарской культуры).
Вот‑вот дело способно сорваться на «травлю».
С моей стороны больше взбалмошности и горячности тигра, возросшего на молоке театра, которому внезапно дали лизнуть крови кинематографической воли!
Положение нелепое, рискованное и организационно вовсе не подходящее для дальнейшего развития труда и творчества.
В такие моменты нужна дружеская рука.
Дружеский совет.
Направляющее слово, остепеняющее анархическое буйствование и глупости, которые сам себе на голову способен наделать сгоряча.
(Как не хватило мне в дальнейшем такой руки во многих крутых, {113} а иногда трагических оборотах моей дальнейшей кинематографической судьбы…)
И вот почему я пишу о Нунэ.
Нина Фердинандовна Агаджанова — маленького роста, голубоглазая, застенчивая и бесконечно скромная — была тем человеком, который протянул мне руку помощи в очень для меня критический момент моего творческого бытия.
Ей поручили писать юбилейный сценарий о Пятом годе.
К этому делу она привлекла меня и твердой рукой поставила меня на твердую почву конкретной работы, вопреки всем соблазнам полемизировать и озорной охоте драться в обстановке грозивших мне со стороны Пролеткульта неприятностей.
Нунэ, около своего маленького самовара, как-то удивительно умела собирать и наставлять на путь разума и творческого покоя бесчисленное множество ущемленных самолюбии и обижаемых судьбою людей.
Делалось это как-то так же бескорыстно и так же заботливо, как поступают дети, собирая в спичечные и папиросные коробки — или в искусственные гнездышки из лоскутов и ваты — кузнечиков с оторванной лапкой, птенчиков, выпавших из гнезд, или взрослых птиц с перебитыми крыльями.
Сколько таких же подбитых и ушибленных бунтарей, чаще всего «леваков» и «экстремистов» от искусства, встречал я здесь вокруг ее уютного чайного стола.
Иллюзию своеобразного морального ковчега, на время укрывавшего своих пассажиров от слишком рьяных и суровых порывов ветра и бурь, еще доигрывали неизменно скакавший между нами неистовый терьер Бьюти и… живой «голубь мира», которого я, как-то о чем-то поспорив с Нунэ, в порядке замиренья приволок ей на следующий день вместе с пальмовой ветвью из бюро похоронных процессий, занимавшего угол Малой Дмитровки наискосок от еще не снесенного в те годы Страстного монастыря.
(Впрочем, этот голубь ухитрился за два часа своего пребывания в квартире на Страстном бульваре в панических своих рейсах — с буфета на перегородку, с люстры на телефон, с карниза кафельной печки на полку с сочинениями Байрона — так загадить обе ее комнатки, что тут же был изгнан с позором.)
Иногда казалось, что перед нами своеобразная приемная зверюшек доктора Айболита, расширенная — от зайчиков с перевязанной лапкой или гиппопотама с зубною болью, — на много {114} взрослых подбитых жизнью самолюбии, горячечных принципиальных заблуждений, жертв случайных творческих невзгод или носителей биографий, пожизненно отмеченных печатью неудачников.
Безобидность этих зайчиков с перевязанными лапками чаще всего была, конечно, более чем относительной…
Достаточно вспомнить, что именно здесь, у Нунэ, наравне с так и не вышедшими «в люди» серебристо-седым актером «Габриэлем» в черной бархатной рубашке или угрюмым изобретателем «Васей», я впервые встретил (и очень полюбил) такого неутомимого упрямца и принципиального бойца, как Казимир Малевич, в период его очень ожесточенной борьбы за направление института, которым он достаточно агрессивно заправлял[cxxxiv].
Но трудно переоценить все моральное значение атмосферы этих вечеров для искателей, особенно крайних, а потому особенно частых в своем неминуемом разладе с повседневным порядком вещей, с общепринятой нормой искусства, с его узаконенными традициями.
Самое же главное было в том, что здесь каждый укреплялся в осознании того, что делу революции нужен всякий. И каждый прежде всего именно в своем неповторимом угловатом индивидуальном виде.
И что дело вовсе не в том, чтобы рубанком снивелировать свои особенности — о чем, улюлюкая, вопила в те годы рапповская ватага[cxxxv], — а в том, чтобы найти правильное приложение в общем деле революционного строительства каждому личному своеобразию. И что в неудачах и невзгодах чаще всего повинен сам: ошибаясь ли в том, за что не по склонности берешься, или в том, что переламываешь хребет собственной индивидуальности, потому что недостаточно старательно ищешь того именно дела, где полный расцвет индивидуальных склонностей и способностей является как раз тем самым, чего требует дело, за которое взялся!
И здесь на этом пути, в осознании этого, каждый находил себе моральную поддержку и помощь.
И не только словом.
Но часто и делом.
Так именно и было со мною.
Но Нунэ сделала больше.
Она не только втянула меня в весьма почтенную работу.
{115} Она втянула меня в подлинное ощущение историко-революционного прошлого.
Несмотря на молодость, она сама была живым участником — и очень ответственным — подпольной работы предоктябрьской революционной поры.
И поэтому в разговорах с нею всякий характерный эпизод прошлой борьбы становился животрепещущею «явью», переставая быть сухою строчкой официальной истории или лакомым кусочком для «детективного» жанра. (Кстати сказать, самый отвратительный аспект, в котором можно рассматривать эпизоды этого прошлого!)
Ибо здесь дело революции было домашним делом.
Повседневной работой.
Но вместе с тем и высшим идеалом, целью деятельности целой молодой жизни, до конца отданной на благо рабочего класса.
Достаточно известна «непонятная» история рождения «Потемкина». История о том, как этот фильм родился из полстранички необъятного сценария «Пятый год», который был нами «наворочен» в совместной работе с Ниной Фердинандовной Агаджановой летом 1925 года.
Иногда в закромах «творческого архива» натыкаешься на этого «гиганта» трудолюбия, с какою-то атавистическою жадностью всосавшего в свои неисчислимые страницы весь необъятный разлив событий Пятого года.
Чего-чего тут только нет!
Хотя бы мимоходом.
Хотя бы в порядке упоминания.
Хотя бы в две строки.
Глядишь и даешься диву.
Как два, не лишенных сообразительности и известного профессионального навыка, человека могли хоть на мгновенье предположить, что все это можно поставить и снять! Да еще в одном фильме!
А потом начинаешь смотреть на все это под другим углом зрения.
И вдруг становится ясным, что «это» — совсем не сценарий.
Что эта объемистая рабочая тетрадь — гигантский конспект пристальной и кропотливой работы над эпохой.
Работы по освоению характера и духа времени.
Не только «набор» характерных фактов или эпизодов, но также и попытка ухватить динамический облик эпохи, ее ритмы, {116} внутреннюю связь между разнородными ее событиями.
Одним словом — пространный конспект той предварительной работы, без которой в частный эпизод «Потемкина» не могло бы влиться ощущение Пятого года в целом.
Лишь впитав в себя все это, лишь дыша всем этим, лишь «живя» этим, режиссура могла смело брать номенклатурное обозначение — «броненосец без единого выстрела проходит сквозь эскадру»
или: «брезент отделяет осужденных на расстрел» — и на удивление историкам кино из короткой строчки «сценария» делать на месте вовсе неожиданные «волнующие сцены» фильма.
Так строчка за строчкой сценария распускались в сцену за сценой, потому что истинную эмоциональную полноту несли отнюдь не беглые записи либретто, но весь тот комплекс чувств, которые вихрем поднимались серией живых образов от мимолетного упоминания событий, с которыми заранее накрепко сжился.
Китайщина чистой воды!
Ибо китаец ценит не точность сказанного, записанного или начертанного. Он ценит обилие того роя сопутствующих чувств и представлений, которые вызывает начертанное, записанное или высказанное.
Какое кощунство для тех, кто стоит за ортодоксальные формы «железных сценариев»[cxxxvi]!
Какое в их устах порицание сценаристам, дерзающим так творить!
Побольше бы сейчас именно таких сценаристов, которые, сверх всех полагающихся ухищрений своего ремесла, умели бы так же проникновенно, как Нунэ Агаджанова, вводить своих режиссеров в ощущение историко-эмоционального целого эпохи!
И режиссеры так же бы вольно дышали темами, как безошибочно и вольно дышалось нам в работе над «Потемкиным».
Не сбиваясь с чувства правды, мы могли витать в любых причудах замысла, вбирая в него любое встречное явление, любую ни в какое либретто не вошедшую сцену (Одесская лестница!), любую не предусмотренную никем — деталь (туманы в сцене траура!).
Однако Нунэ Агаджанова сделала еще гораздо больше.
Через историко-революционное прошлое она привела меня к историко-революционному настоящему.
{117} <Нунэ была первым большевиком-человеком, с которым я встретился не как с «военкомом» (в обстановке военного строительства, где я служил с восемнадцатого года), не как с «руководством» (Первого рабочего театра, где с двадцатого года работал художником и режиссером), а именно как с человеком.>
У интеллигента, пришедшего к революции после семнадцатого года, был неизбежный этап «я» и «они», прежде чем происходило слияние в понятие советского революционного «мы».
И на этом переходе крепко помогла мне маленькая голубоглазая, застенчивая, бесконечно скромная и милая Нунэ Агаджанова.
И за это ей мое самое горячее спасибо…

{118} «Двенадцать Апостолов»
1
Я ужасно не люблю выражение: «Чтобы сделать рагу из зайца…»
К тому же оно здесь совершенно неуместно.
Но вместе с тем — для того, чтобы сделать картину вокруг броненосца — все же нужен… броненосец.
А для истории броненосца в 1905 году этот броненосец еще должен быть именно такого типа, какие существовали в девятьсот пятом году.
За двадцать лет — а дело было летом 1925 года — облики военных кораблей категорически изменились.
Ни в Лужской губе финского залива — в Балтфлоте, ни во флоте Черного моря броненосца старого типа летом 1925 года уже нет.
Особенно в Черном море, откуда военные суда даже старого типа были уведены Врангелем и в большом количестве затоплены.
Весело покачивается на водах Севастопольского рейда крейсер «Коминтерн».
Но он вовсе не то, что нам надо. У него нет своеобразного широкого крупа, достойного цирковой лошади, — площадки юта — плацдарма знаменитой драмы на Тендре[cxxxvii], которую нам надо воссоздавать…
Сам «Потемкин» много лет тому назад разобран, и даже не проследить, куда листопад истории разнес и разметал листы тяжелой брони, когда-то покрывавшей его мощные бока.
Однако разведка — киноразведка — доносит, что если не стало самого «Князя Потемкина Таврического», то жив еще его друг и однотипный сородич — когда-то мощный и славный броненосец «Двенадцать Апостолов».
{119} В цепях, прикованный к скалистому берегу, притянутый железными якорями к неподвижному песчаному морскому дну, стоит его когда-то героический остов в одной из самых дальних извилин так называемой Сухарной балки.
А сама Сухарная балка — одна из самых секретных извилин засекреченной зоны Севастопольского рейда.
И не напрасно.
Именно здесь — в глубоких подземельях, продолжающих извилины залива в недра гор, — хранятся сотни и тысячи мин. У входа к ним, как бдительный цербер в цепях, лежит продолговатое ржаво-серое тело «Двенадцати Апостолов».
Но не видно ни орудийных башен, ни мачт, ни флагштоков, ни капитанского мостика на громадной широкой спине этого дремлющего сторожевого кита.
Их унесло время.
И только многоярусное железное его брюхо иногда грохотом отзывается на стук вагонеток, перекатывающих тяжелое грохочущее и смертоносное содержимое его металлических сводов: мины, мины, мины.
Тело «Двенадцати Апостолов» тоже стало минным пакгаузом.
И потому-то серое тело его так тщательно приковано, притянуто и прикручено к тверди:
мина не любит толчков, мина избегает сотрясения, мина требует неподвижности и покоя.
* * *
Казалось, навеки застыли в неподвижности «Двенадцать Апостолов», как недвижно стоят двенадцать каменных изваяний сподвижников Христа по бокам романских порталов: они такие же серые, неподвижные, избитые ветрами и изрытые оспою непогоды, как и бока железного нефа, железного собора, по пояс погруженного в тихие воды Сухарной балки…
Но железному киту суждено еще раз пробудиться.
Еще раз двинуть боками.
Еще раз повернуть свой нос — казалось, навсегда уткнувшийся в утесы — в сторону открытого моря.
Броненосец стоит около самого скалистого берега: параллельно ему.
А «драма на Тендре» происходит в открытом море. Ни с боку, {120} ни с носа броненосца никак не «взять» кинокамерой таким образом, чтобы фоном не врывались в объектив тяжелые отвесные черные скалы.
Однако зоркий глаз помрежа Леши Крюкова, разыскавший великого железного старца в извилинах секретной зоны Севастопольского рейда, разглядел возможность преодоления и этой трудности.
Поворотом своего мощного тела на девяносто градусов корабль становится к берегу перпендикулярно: этим путем он фасом своим, взятым с носа, попадает точно против расселины окружающих скал и рисуется во всю ширину своих боков на чистом небесном фоне!
И кажется, что броненосец в открытом море.
Вокруг него носятся удивленные чайки, привыкшие считать его за горный уступ. И полет их еще усугубляет иллюзию.
В тревожной тишине ворочается железный кит.
* * *
Особое распоряжение командования Черноморским флотом снова, в последний раз, поставило железного гиганта носом к морю.
И кажется, что носом этим он втягивает соленый воздух открытой глади после застойного запаха тины у подножия берегов.
Дремлющие в его чреве мины, вероятно, ничего не заметили, пока совершался тот плавный оборот его грузного тела.
Но стук топоров не мог не тревожить их сна: это на палубе подлинного броненосца собирают верхнюю часть броненосца фанерного.
Из реек, балок и фанеры по старым чертежам, хранящимся в Адмиралтействе, воссоздан точный облик внешнего вида броненосца «Потемкин».
В этом почти символ самого фильма — на базе подлинной истории воссоздать средствами искусства прошлое…
Но ни единого рывка ни вправо, ни влево.
Ни одного сантиметра вбок!
Иначе погибнет иллюзия открытого моря.
Иначе лукаво в объектив станут заглядывать седые скалы, как престарелые красавицы на офортах Гойи, заглядывающие в зеркала — «и так до самой смерти»[cxxxviii].
{121} Жесткие пространственные шоры держат нас в узде.
Не менее жестки шоры времени:
жесткие сроки необходимости сдачи картины в день юбилея не дают разбегаться замыслам.
«Раку воображения», как называет Юрий Олеша неуемное буйство фантазии, здесь негде процветать.
Цепи и якоря держат в узде старое тело броненосца, рвущегося в море.
Оковы пространства и якоря сроков держат в узде излишки жадной выдумки.
Может быть, именно это и придает строгость и стройность письму самого фильма.
* * *
Мины, мины, мины.
Недаром они все время выкатываются из-под пера на бумагу.
Под знаком мин идет вся работа.
Курить нельзя.
Понапрасну бегать нельзя.
Излишне стучать нельзя.
Даже без особой нужды пребывать на палубе и то — нельзя!
Страшнее мин — мина, которою на нос глядит специально к нам приставленный хранитель мин — отгадайте, с какой фамилией?
Тов. Глазастиков!
Г-Л-А-З-А-С-Т-И-К-О-В!
Это не игра слов. Но зато — увы! — это полная характеристика внутреннего содержания носителя этого недреманного ока, этого аргуса, охраняющего ярусы мин под нашими ногами — от вспышек, от излишней тряски, от детонации…
На выгрузку мин понадобились бы месяцы, а у нас всего две недели сроку, чтобы успеть окончить фильм к юбилейному заседанию!
Попробуйте в таких условиях снимать бунт!
Однако — тщетны россам все препоны[cxxxix]: бунт был отснят!
Правда, в картине есть и вид броненосца сбоку… Но этот вид снят в мавританских хоромах Сандуновских бань в Москве: в тепловатой воде бассейна покачивается серое тельце модели броненосца.
{122} 2
Не напрасно ворочались мины в брюхе старого броненосца и вздрагивали от грохота воссозданных событий истории, проносившихся по его палубам.
Что-то от их взрывной силы захватил с собою в свое плаванье и экранный его отпрыск.
Экранный образ старого бунтаря причинил немало беспокойства цензурам, полициям и полицейским пикетам многих и многих стран Европы.
Не меньше набунтовался он и в глубинах кинематографической эстетики.
Но вот, прошумев по Европе, он по следам Колумба отправился через Атлантику — открывать Америку.
Он был принят очень дружелюбно специалистами кино.
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 424; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!