
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Сорбонна
|
|
|
|
Пролог
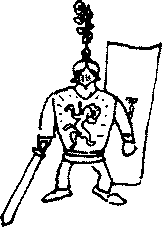
1929 год.
Поздняя осень, переходящая в зиму.
Берлин.
Мартин-Лютер-штрассе.
Меблированные комнаты «Пансион Мари-Луизе».
Две громадные полуторные кровати.
Немецкие необъятные перины.
Под одной — Фридрих Маркович Эрмлер.
Под другой — я.
Фридрих сегодня прибыл из Москвы.
Ему Берлин не нравится.
Ему здесь неуютно.
«Что я буду здесь делать?»
Ему уже хочется домой.
Я уже несколько месяцев за границей. Успел объездить с докладами Швейцарию[clix].
Выступал в Гамбурге.
В Берлине понимаю толк.
Завтра я начну Фридриху показывать Берлин[clx].
А сегодня он мне рассказывает о московских настроениях: «В Москве о тебе ничего не слышно… В Москве считают, что ты недостаточно колоритно путешествуешь…»
В Москве, конечно, не понимают, что съездить в Голливуд — это цель моей поездки — совсем не так просто и на переговоры уходит известная доля времени.
Тем не менее в Москве, в кинематографической Москве, считают, что я путешествую недостаточно… как он сказал?.. колоритно?
{146} «Вот если бы тебе, — продолжает Фридрих мечтательно, — политически где-нибудь понашуметь…» Я очень сговорчив.
«Понашуметь?.. Колориту мало?»
Я посапываю и переворачиваюсь на бок.
Погодите. Дайте повод.
Дайте срок. Москва будет довольна.
Что будет? Пока никому не известно…
Гаснет свет.
Оба засыпаем…
Проходит несколько месяцев…
1930 год.
Париж.
Середина февраля.
Я уже успел съездить с докладами в Лондон[clxi].
Побывал в Бельгии, где выступил перед рабочими в знаменитом предместье Льежа.
Название его Серенг-ла-Руж («Красная»!) говорит за себя.
Избегая чрезмерного любопытства полиции, уезжаю из отечества Тиля Уленшпигеля немного быстрее, чем предполагал.
Это мешает заехать в Остенде в ответ на любезное приглашение старика Джеймса Энсора. Я очень сожалею об этом, так как люблю его гротескные офорты, где скелеты и люди свиваются в самые фантастические узоры, продолжая на пороге XX века традиции этих затейливых и странных фламандских предков типа Иеронимуса Босха.
Выступаю в Голландии.
Здесь — не без маленьких сенсаций.
Голландия неразрывно с детства связана с представлениями о какао Ван-Гуттена, остроконечных чепцах и, конечно, о гигантских деревянных сабо.
Первое, о чем я спрашиваю, сходя с поезда в Роттердаме (мой первый доклад здесь), это: «Где же сабо?»
Назавтра все газеты выходят с жирным заголовком: «“Где же сабо?” (по-голландски “кломпен”), — спрашивает Эйзенштейн».
{147} На пути к музею Ван-Гога в Гааге наше такси чуть не сшибает с ног… королеву Вильгельмину.
В те идиллические годы уже немолодая королева, как всякая простая смертная дама, пешком гуляет по улицам собственной столицы.
В последнюю секунду такси успевает свернуть в сторону…
Упиваемся колоритом лучшего в мире собрания холстов Ван-Гога.
Здесь рядом с поразительным рисунком «Жниц» на почетном месте сверкает красками знаменитый портрет почтового чиновника с оранжевой бородой[clxii]. Потоки крона, охры и коричневатого золота так же безудержно змеятся к остриям раздвоенной его бороды, как потоки иссиня-черного и темно-зеленого взвиваются вверх в извивающихся спиралях его кипарисов.
Однако сенсация не здесь.
Среди очень дружелюбно встретивших меня в Амстердаме газет оказалась и статья какого-то патера.
Патер очень тепло писал о громадной проповеди гуманитарных идей, которые несет с собой советская кинематография.
На следующий день поднялась несусветная газетная буря, обрушившаяся на бедного патера.
Общий тон этой бури особенно законченно выразила одна газета: «Что большевики способны вступать в союз с самим дьяволом, — мы не сомневаемся нисколько. Но видеть, как их еще прикрывает сутана, — это уж слишком!»
Однако ни особенного шума, ни тем менее особого колорита все это не вносит. (Разве что в биографию бедного патера!)
И вот по-прежнему Париж.
Через край переполненный впечатлениями Париж.
Но сенсаций — пока никаких.
Медленно тянутся переговоры с Америкой.
Бурно проносятся увеселения «нового Вавилона»[clxiii].
Истово исхаживаются маршруты положенного увидеть туристам.
Шмен-де-Дам[clxiv] и поля сражения под Верденом.
Музей Клюни, куда ходят исключительно смотреть выставленный металлический «пояс целомудрия».
Музей Карнавале, посвященный истории города Парижа.
Но вот, наконец, в ответ на настойчивые просьбы я даю согласие выступить с докладом в Сорбонне.
{148} Ничего особенного!
Небольшой доклад о советском кино. Демонстрация фильма «Старое и новое»…
Под эгидой секции «des recherches sociales» — «социальных изысканий».
В зале Ришелье. На одну тысячу персон.
«Старое и новое» еще не разрешено цензурой.
Но показ в стенах Сорбонны считается закрытым просмотром.
Сорбонна — экстерриториальна.
Такой показ в цензурном разрешении не нуждается.
И где-то под сидячей фигурой кардинала Ришелье устанавливается переносной киноаппарат для демонстрации фильма.
Хорошо, что просмотр состоится вне разрешения цензурного комитета.
Цензура фильм, конечно, никак не пропустит в той атмосфере антипатии к Союзу, которая царит здесь. Совсем недавно запретили нашу хронику какого-то из очередных физкультурных парадов.
Единственный мотив — лица участников парада улыбаются.
Значит, в Советском Союзе совсем не так плохо?!
Советская пропаганда!
За‑пре‑тить!
Французская цензура, как видим, сверхбдительна!
То ли дело английский цензурный комитет в Лондоне… Я только что оттуда. Там один цензор слеп, это для немых фильмов?
Другой — глух, это для звуковых?? А третий в период моего пребывания вовсе… умер!
Правда, все это нисколько не мешает нашим фильмам совершенно не демонстрироваться в Лондоне, хотя цензура даже не считается государственным учреждением.
Хорошо, что хоть в Париже есть еще неприступные цитадели свободы зрелищ!
Голубые билетики — приглашения — разлетаются по Парижу.
Выясняется, что вечер ожидается с большим нетерпением.
Но вот чья-то подлая предательская рука закидывает один голубой билетик на один письменный стол.
Письменный стол принадлежит господину Кьяппу, пресловутому префекту полиции города Парижа.
Ну что же. Мы не возражаем, чтобы в публике был бы и мосье Кьяпп. «Будем как солнце»[clxv]. Будем светить и добрым, и злым.
Однако дело совсем не так безобидно, как кажется.
{149} Приезжаю за полчаса до начала доклада в Сорбонну.
В длинном коридоре встречаюсь с Муссинаком и доктором Алланди — председателем вечера.
Сбоку из зала доносится гул голосов.
У входных дверей — давка.
У входа в здание — столпотворение.
Дело, конечно, не столько в моей персоне, сколько в том, что в столь недружелюбном в те годы к Москве Париже раздастся голос приезжего москвича.
Но… на Алланди и Муссинаке нет лица.
Оказывается, что невинный голубой билетик на столе префекта — это вовсе не приглашение господину префекту пожаловать на просмотр. Билет, посланный префекту полиции, превращает закрытый вечер в вечер… открытый. А на открытом вечере для демонстрации фильма требуется разрешение цензурного комитета. «Старое и новое» разрешения не имеет.
Только что прибыло распоряжение полиции, запрещающее показывать фильм.
Мне приоткрывают боковую дверь в зал.
В щелочку я вижу — собирается публика. Многие уже на местах.
Высится сидячая фигура Ришелье.
Под ней — проекционный аппарат.
И около аппарата… в полной форме полицейский, в традиционной пелеринке, в белых перчатках.
Он стоит, судорожно ухватившись за ножку проекционной машины.
«Quel outrage! Какое оскорбление! Это первый flic (полицейский) в стенах Сорбонны со времени Наполеона III!» «Он прибыл вместе с запретом. В его задачу входит не допустить демонстрации фильма…»
«Merde[86]!» Я уже настолько свыкся с французским языком, что ругаюсь, не прибегая к переводам.
Ну что же? Идти домой?!
Как можно!!!
Оба устроителя умоляют остаться.
У меня заготовлено вступительное слово на двадцать минут.
Не могу же я им развлекать аудиторию в течение целого вечера?!
За стеной внезапный грохот, {150} как шум от вырвавшейся очень большой пробки из очень большой бутылки шампанского.
Это толпа прорвалась во входные двери. Смяв контроль, людские потоки затопляют зал.
Устроители умоляюще глядят.
Как же можно отменять вечер?!
Быстро совещаемся, — что же делать.
Попробовать показывать фильм?
Наперекор запрещению?
Но этого, видимо, полиция только и ждет.
Полицейский попытается остановить проекцию.
Полицейский, вероятно, получит по шее от кого-нибудь из более экспансивных зрителей.
Но из-под земли вырастут другие полицейские…
Вбегает кто-то из младших устроителей вечера, бледный как полотно: «Во дворе Сорбонны размещаются отряды полиции!» «Quel outrage! Quel outrage!»
«Вот видите: подымется драка».
«Произойдет стычка с полицией».
В публике немало товарищей — французских коммунистов.
Полиция будет очень рада в общей свалке переловить тех, кого ей надо…
Новый взрыв.
Это толпа снова прорвала еле‑еле наладившийся контроль.
Уже забиты проходы.
Сидят на ступеньках.
Недоумевают, глядя на полицейского.
Галдят, как гигантский улей.
Как же быть?
На тысячу мест — уже три тысячи человек.
Другой из младших устроителей приносит еще более тревожную весть: «В зале большой процент “королевских субчиков”» («camelots du roi») — членов молодежной организации монархистов.
Все подготовлено к большому скандалу…
Принимаем быстрое решение.
Больше чем на сорок минут я не сумею растянуть свое сообщение.
А потом — чем черт не шутит — сыграем с публикой в… «вопросы и ответы».
И да поможет мне бог!
{151} Зал разражается грохотом нетерпения.
Ныряю головой вперед, как в бушующий океан.
Рев, который подымается с мест, способен заглушить рев любого океана, такой подымается ураган негодования, когда доктор Алланди сообщает о запрещении префекта показывать фильм.
Бедный ажан двадцать раз меняет краску в лице — то он багрово-красный, то бледный, как салфетка.
Конечно, трудно придумать более благодарную атмосферу…
* * *
В сущность самого доклада здесь особенно вдаваться нечего.
Помимо общих идеологических позиций и особенностей советского кино я излагаю милое моему сердцу учение об «интеллектуальном кинематографе» — кинематографе понятий, которым я как раз в это время особенно увлечен.
В специальной литературе все это изложено очень обстоятельно и подробно[clxvi].
Это учение об эмоциональном и интеллектуальном «обертонах» и схема «от тезы к образу — от образа к понятию» и все прочее на многие годы давало пищу для освоения, споров, полемики, выработки методики.
Но повторяю: это все — материал для специальной литературы и имеется в любом количестве специальных статей.
По ходу дела попадает слегка сюрреализму, тогда еще модному даже в самом Париже, если словом «слегка» можно назвать утверждение докладчика о том, что они делают прямо противоположное тому, что следует делать…[clxvii]
Но здесь интереснее всего, конечно, изложить драматическую сторону самого вечера, тем более что описание этой стороны в теоретические статьи, конечно, никогда не попадало!
Начать с того, что я ненавижу выступать перед публикой.
Оцепенение.
Но тут идет навстречу такое горячее дыхание наэлектризованной гневом аудитории, что всякое оцепенение и скованность тают как воск.
Вдруг по-настоящему сам проникаешься подлинной гневной возмущенностью.
Ты — в самом сердце научной мысли Франции,
{152} Франции Декартов и Вольтеров,
Франции «Прав человека» и коммунаров,
Франции многовековой борьбы за свободу.
И вдруг какой-то грязный flic смеет сидеть (а к этому моменту он даже сел около киноаппарата!) у подножия статуи великого кардинала!
Но мало того.
Сейчас вокруг меня — Париж.
Париж, в своей правящей верхушке также нагло смеющий не признавать Советский Союз (несмотря на существующие дипломатические отношения),
Париж, смеющий в реакционной замкнутости отворачиваться от страны, перехватившей у Франции, подобно эстафете, светоч идеалов свободы и мчащей его вперед к невиданным горизонтам.
И вот я стою в этом самом Париже, древностью камней взывающем к лучшему, что есть в человечестве, и одновременно в разгуле реакции позволяющем потокам черной реакции топить малейший призрак проявления свободы!
(О том, что весь двор заполнен полицией, уже известно в президиуме вечера.)
И в такой обстановке, в такой момент, с бушующей гневной тысячной толпой перед собой, я имею право слова, имею возможность говорить.
Будь я человеком патетического склада, вроде Довженко или Пудовкина, я, конечно, разразился бы речью трибуна, сотрясал бы древние стены Сорбонны руладами, достойными Кальвина или Савонаролы.
Но мне, несмотря на всю мою «солидность», даже до сих пор ближе не тип «орла из Мо», пламенного Боссюэ, или огненного Гамбетты, но скорее Анри Рошфор, а говоря по совести…
Гаврош[clxviii].
И потому не ударами грома, взрывами смеха атакую я моего противника — Голиафа французской реакции.
Особенно в той части, которую я называю игрой в «вопросы и ответы» с аудиторией и которая наступает после доклада.
Выбор оружия оказался совершенно правильным.
Назавтра «Матэн» (или какой-то другой аналогичный орган) будет писать: «Бойтесь большевиков не с кинжалом в зубах, а со смехом на губах!»
А для вмешательства полиции нет никаких оснований.
{153} Помилуй бог, — чего же вмешиваться! — ведь перед вами тысячная аудитория, которая прелестно и миролюбиво развлекается.
Но, боже мой, над чем только она не развлекается!
Сейчас уже не вспомнить, что у меня летит с языка в ответ на самые невинные и безобидные вопросы.
Это, кажется, единственный раз в жизни, что мне приходится «держать» конферанс и, не задумываясь, «резать» ответами.
Теоретическое разъяснение.
Бутада[87]!
Фактическая справка.
И бац! — копытом в цензурный комитет.
Опять бутада.
Опять справка.
И снова, бац! — на этот раз по министерству иностранных дел.
И тут же — бац! бац! бац! — по префектуре.
Аудитория неистово гогочет.
Ее уже пленило и ошарашило то, что приезжий иностранец, да еще из страны, которую почему-то считают безумно строгой и вовсе чуждой юмора (я уже сказал, что цензура упраздняла наши хроники именно за… улыбки!)
— вдруг совершенно весело выступает перед аудиторией, и при этом используя даже не книжно-акдемический «переводной» стиль французского языка, а самые залихватские бульварные обороты речи, а местами просто «арго».
Это неожиданно как со стороны докладчика, так и для стен, где он выступает.
Мои скитания по предместьям Парижа снабдили меня отборным набором французского острословия.
Но иногда и я лингвистически спотыкаюсь.
Для такого случая в Париже есть чудное средство, — когда у человека в разговоре не хватает точного обозначения, он, не стесняясь, говорит «chose» (предмет) или «machin» (тоже предмет, только в более урбанистической этимологии), обрисовывая самый предмет либо жестом, либо словесным описанием.
Нужно было видеть, с каким восторгом и рвением аудитория единогласным ревом подсказывала недостающие мне слова в моменты неизбежной остановки после каждого моего «machin» и «chose».
{154} (Теперь можно сознаться в том, что эта игра мне так понравилась, что было вкраплено несколько «machins» и «choses» и помимо необходимых.)
Кажется, особенно обстоятельно впервые миссис Констанс Рурк в книге «Американский юмор» распространяется на тему о смехе как самом мощном факторе коллективного объединения человеческой массы.
Часы, проведенные в Сорбонне, самый яркий тому пример.
Куда исчезла оппозиционная прослойка «королевских субчиков»?
Нет, они здесь. Вот мелькают их береты.
Куда девалась еще более недружелюбная прослойка белых эмигрантов, рассчитывавших позабавиться во время скандала?
В общих раскатах смеха действительно оказывается, что иногда не только в Царствии Божием бывает, что «несть ни эллина, ни иудея»[clxix].
Впрочем, трудно, конечно, удержаться, когда с почтенной кафедры Сорбонны официальный лектор «срезает» провокационный вопрос с места, в ответе пользуя слово «dépucelage» — «потеря девственности» — в самой уличной фразеологии.
Это — в ответ на чей-то вопрос: «Действительно ли уж так правдиво утверждение докладчика, что критика рабочей аудитории так ценна для творцов кинематографа?»
Ответ гласит, что ценны только два вида критики:
классово непосредственная реакция и критика рабочих аудиторий, для которых мы работаем, и критика профессиональных знатоков;
наименее нам интересна «промежуточная» критика тех, кто не дорос до подлинного знания и понимания нашего дела и вместе с тем «потерял невинность» непосредственного восприятия!
С печатной страницы это, может быть, даже звучит неостроумно.
Но в разгоряченной смехом аудитории, с фигурой Ришелье, парящей в воздухе над ней, с потеющим фликом у киноаппарата и полицейским окружением вокруг — он [ответ] взрывается как ракета.
Совершенно так же, как последний ответ на последний вопрос:
«Правда ли, что в Советском Союзе навсегда умер смех?»
В ответ на это я отвечаю… собственным раскатом смеха.
В то время у меня зубы еще очень крепкие, хорошие и белые.
И, кстати сказать, совершенно искренний смех в ответ на нелепость {155} этого предположения звучит совершенно убедительно.
Покидаем поле сражения.
Проходим полутемным двором Сорбонны.
Мрачно глядят понапрасну вызванные полицейские.
Как потом рассказывали, среди них в течение некоторого времени витала фигура самого господина префекта.
По-видимому, это правда.
Проходим переулочками вокруг Сорбонны.
Раненых и убитых не видно, хотя выясняется, что «с применением грубой силы» от входных дверей было «отважено» еще очень и очень много народу.
Проходим мимо открытых дворов.
Глазам не верим!
В переулках, во дворах… грузовики с полицией!
Ожидалась, видимо, форменная бойня.
Вечер заканчиваем в кабачке Пьяного корабля, названного в честь «Bateau ivre», сочинения Артюра Рембо.
Кабачок отделан под внутренность нормального корабля. Налет «пьяности» ему придают сами посетители.
Затем мирно отправляемся спать в наш маленький «Hôtel des Etats-Unis».
* * *
Девять часов утра следующего дня.
Мощный удар кулака в дверь моего маленького номера.
Удар был на три часа раньше, так как полиция нагрянула ровно
в шесть часов утра[clxx].
Однако хозяин отеля, став поперек лестницы, грудью защитил
мой покой.
«Господин Эйзенштейн вернулся вчера поздно».
«Господин Эйзенштейн спит».
«Раньше девяти утра я к господину Эйзенштейну никого не пущу!»
Милый хозяин отеля «Des Etats-Unis»!
Я не могу себе простить, что не помню его фамилии.
Но сперва несколько слов о самом отеле.
Это узкое, как узки здания только на Монпарнасе, здание в две комнатки по фасаду шириной и этажей в пять в высоту.
Мы стремимся проехать в Соединенные Штаты.
{156} Считаем свое пребывание в Париже преходящим и мимолетным.
Считаем Париж своеобразным «maison de passe», как сказал бы я, если бы передо мной была вчерашняя аудитория Сорбонны, а не белый лист бумаги.
(Maison de passe — проходной дом — деловитое обозначение домиков, куда заходят, долго не задерживаясь и встречаясь там с дамой, которая своими путями пробирается туда к назначенному часу.)
Все мысли заняты Соединенными Штатами. Так как же из всех возможных маленьких отелей — их здесь десятки! — было не выбрать именно тот, над которым вывеской высится цель наших скитаний: «Отель Соединенных Штатов» — «Hôtel des Etats-Unis»!
В отеле на пять этажей — десять маленьких, абсолютно похожих друг на друга номеров.
Внизу контора — она же столовая хозяев. И хозяйская спальня.
Отель совершенно домашний.
Даже доходность его не очень беспокоит хозяев.
Они держат его, скорее, для времяпрепровождения.
Он прекрасный знаток гранильного дела, довольно крупный руанский коммерсант.
Много лет торговал не слишком драгоценными камнями, вделанными в не очень дорогие кольца и браслеты, сделал на этом достаточно большие деньги. В известном возрасте решил продать не только камни, но и все свое «дело», а самому коротать остаток дней в Париже.
Мадам — толстая южанка с черным валиком прически и черными, как вишни, глазами.
Чуть-чуть косоглазый жидковолосый плечистый блондин Шарль в полосатой жилетке без пиджака с традиционной метелкой из перьев французского отельного слуги.
Две настолько часто сменявшиеся горничные, чаще всего из бретонок, что их невозможно было запомнить.
Их неизменно при уборке комнат щупал по разным этажам Шарль своими длинными костлявыми пальцами.
Они старались заглушенно визжать, но визг доходил до низу.
Из «конторы» выходил «мосье» и выразительно кашлял в шахту лифта.
Визг прекращался, с тем чтобы возобновиться в новом этаже.
Был еще ночной сторож — швейцар, вечно полупьяный и вечно {157} дремавший на двух составленных вместе креслах из нижнего общего «фойе».
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 487; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!