
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Ганс. Колетт 2 страница
|
|
|
|
{204} Наконец, Кики, сама ставшая писать красками, рисующая мой портрет.
К концу второго сеанса неожиданно входит Гриша.
Она скашивает свои громадные миндалевидные глаза неизменно благосклонной кобылицы из-под длинных ресниц в сторону Александрова и… в мой портрет оказываются вписанными губы будущего постановщика «Веселых ребят».
На вывеску ресторана попадают и «Анфан террибли»[122] — заглавие последнего романа Кокто.
На них надписано характерным гусеничным почерком все с той же манерностью и пентаграммой: «A celui qui m’a bouleversé en me montrant ce que je touchais avec les doigts d’aveugle. A Eisenstein son ami Jean Cocteau. Paris, 9.I.1930»[123].
Однако завтракать мы едем вовсе не под одну из этих вывесок.
Из котла безудержного уличного движения, из его гомона и грохота, из всего того, что французы так колоритно называют прелестным словом «brouhaha», мы подымаемся на одну из возвышенностей (buttes), опоясывающих Париж.
Знающие географию Парижа придерутся к тому, что окружение холмами здесь неполное; однако я настаиваю на «опоясанности», ведь такой город, как Париж, может быть опоясан только прерванным… расстегнутым поясом!
На этот раз — это возвышенности не Сакре-Кёра, утопающего в том, что называют «bon Dieu séries», — медальки с пылающим сердцем Христовым, целительные эксвото, цветочки, иконки, ленточки, открытки с ласточками с пришитыми к клювикам настоящими жетонами, свидетельствами того, что правоверный паломник был на поклонении у подножия этого уродливого сооружения времен Наполеона III[ccxix], по-своему умело обезобразившего облик Парижа.
Но это и не возвышенность Монмартра, с мельницами, Плас дю Тертр, до одури знакомой по живописи, с кабачком «Au lapin agile»[124], где когда-то пел свои песни несравненный Аристид Брюан.
На этот раз это — лакомство особого рода. На вершинах la Villette.
{205} Там, где орудуют бойни.
Где трудятся мясники.
И где такие же изысканные маленькие рестораны по части кровавых бифштексов, как внизу, в «брюхе Парижа» — на Парижском центральном рынке, вы можете получить ни с чем не сравнимый луковый суп с сыром, тянущимся из тарелки за ложкой, словно золотистые морские водоросли, — или лучшие сорта улиток в других ресторанчиках, пугающих вас ночью длинными рогами своих золоченых улиток над входом.
(Одну предрассветную заутреню вы же не можете не посвятить осмотру этой кумирни чревоугодия, куда за ночь стекаются караваны яств…)
За кровавым бифштексом мы с Кокто договариваемся обо всем.
Помимо Мари Марке он поговорит еще с Филиппом, как только Филипп возвратится из Женевы.
Это тот же Филипп, с которым обещала поговорить Колетт.
И через несколько дней регулярно начнут поступать крошечные четвертушки, исписанные микроскопическим почерком управляющего министерства иностранных дел.
Они информируют Кокто о ходе моего дела.
Кокто их пересылает мне.
Я храню их на память.
Но до этого я вижусь с самим Бертло[ccxx].
Если я скажу, что внешность Филиппа Бертло мне напоминает чем-то облик Томаса Манна, это во многом окажется, как [в] старом анекдоте про царского министра Маклакова.
— Как выглядит министр Маклаков?
— Его брата, депутата, знаешь?
— Нет.
— Совсем непохож!
Скажем только, что у Бертло высокий стоячий крахмальный
воротник…
[День за днем]
День за днем эпопея сыплет на меня неожиданные встречи:
людей, обстановку, ситуации. Многое в жизни я не увидал и не узнал бы, ежели бы не она!
Однако беготня, связанная с нею, и обокрала меня кое в чем.
Так я не успел попасть на гонки борзых и в знаменитый «ратодром», {206} где, согласно определенным правилам игры, бульдоги расправляются с крысами.
Она же мне помешала в еще более колоритном развлечении.
В Париже, помимо Жермен Крулль, я дружил, конечно, с массой фотографов.
Тут и Ман Рэй, и Эли Лотар, и Кертес, который мне и предложил это развлечение.
Ман Рэй принимает великосветских дам у себя в ателье на уличке Notre Dame des Champs (?).
Кертеса великосветские дамы принимают у себя.
Кертес говорит, что более интересного зрелища, чем эти дамы, «вынутые из позы», трудно найти. Как они обращаются с прислугой, с парикмахерами, как они ходят по дому, когда им некого стесняться.
Прислуга не считается за людей.
При ней можно садиться в ванну.
Фотограф на дому — почти то же самое.
Если не физическую — моральную сюиту, достойную серии «Купальщиц» Дега, можно наблюдать в отелях всех этих контесс, пренсесс и виконтесс.
Я должен был в темных очках — на всякий случай, чем черт не шутит — вдруг пришлось бы встретиться где-нибудь потом — официально таскать за ним фуляры и флешлайты[125] с видом его помощника…
Не попал.
Не попал и на закрытый смотр моделей будущего сезона к Ворту.
Тоже должны были пойти с фотографом — моим другом — венгерцем.
Поэтому знакомство с «maison de couture»[126] ограничилось одной мадам Ланвен, где шились платья для мадам Мары.
[Изгнание дьявола]
Все на мертвой точке…
Ничто не движется вперед.
Проходят дни.
{207} Истекает срок малинового билета[ccxxi].
Через несколько дней буду в Берлине.
Неужели партия проиграна и вся игра страстей впустую?
Жаль!
Но прежде чем покинуть Францию, хочу увидеть Везлэ (Vézelay).
Там самые потрясающие древности романской архитектуры, самые затейливые фигурные капители. Самый строгий и вместе с тем причудливый тимпан портала.
Проводим сказочный день в Везлэ (это [несколько десятков] километров от Парижа).
Вернувшись, не могу удержаться, чтобы не послать в Берлин, доктору Эрвину Хонигу, когда-то в Ленинграде навещавшему в качестве корреспондента мои съемки «Октября», а нынче одному из редакторов в гигантском концерне «Ульштейн», только что с громадным успехом выпустившему в многотысячном тираже «На западном фронте без перемен», — открытку с одной из капителей собора в Везлэ: ангел, ведя за рога дьявола, извергает его из окружения пальм божественных садов.
Извещаю доктора Хонига — когда-то бок о бок жили мы с ним в «Европейской гостинице», — что скоро, вероятно, буду в Берлине, так как парижские власти подобны этому кургузому романскому ангелу…
Через два дня приходит в Париж берлинская «Berliner Zeitung am Mittag». В центре полосы — мой дьявол, выталкиваемый ангелом, — факсимиле оборотной стороны открытки и улюлюкающая издевка немцев над французами. Эпопея приобретает международный характер!
Заботливые руки старательно вшивают другой экземпляр этой же газеты во все пухнувшее мое досье. Конечно, не в пользу мне.
Но я делаю еще худшее.
Очень за меня старается какой-то маленький, кажется социалистический, листок.
Любезность за любезность: они просят у меня интервью.
Я очень обозлен.
К тому же терять, кажется, уже нечего.
Дело явно застряло.
Не вытанцовывается.
Мэтр Ламур угрюм и мрачен.
Александров и Тиссэ гоняют со своим господином Курочкиным где-то в Ницце или в Говт де Лу.
{208} Даю себе полную волю в своем интервью.
«Какова цель вашего приезда в Париж?»
— Хочу познакомиться с тем аббатом, который ввел в лоно католической церкви Гюисманса.
(Я вспоминаю, что улыбающийся мосье Удар занимает в префектуре то самое место, где когда-то сидел автор «Бездны» и «Святой Лидвины де Шиедам». Может быть, ему удастся проделать это и со мной?..) «Что вы скажете о случившемся с вами инциденте?»
— Я сделал ошибку, приехав в Париж и не пожертвовав должной суммы на госпиталь для престарелых и пострадавших жандармов, покровительствуемый мадам Кьяпп…
(Это — один из наиболее известных окольных путей — вручать взятки господину Кьяппу!)
И в таком роде бутада за бутадой.
Назавтра — общий смех на Монпарнасе.
Вечером сижу у крайнего ряда столиков под тентом «Куполи».
Из сумерек выныривает мой знакомый — венгерец. Тот самый, который фотограф.
Несколько дней тому назад он, также вынырнув из полутьмы, стоя боком, сквозь зубы конфиденциально доносил:
«Видел ваше досье… Все, кажется, в порядке…»
Сегодня он взбешен. Кричит в открытую:
«Вы сошли с ума!
Ваше интервью…
Все уже налаживалось…
Теперь все сорвалось! Все кончено!..»
Плевать!
Завтра истекает мой срок.
Предстоит повторный визит к господину Удару.
Увидим…[ccxxii]
<Как меня принимают в приемной и как меня принял Удар!
— Restez, monsieur, restez!
Ouf!..[127]>
{209} * * *
Кто же, в конце концов, решил дело, я так и не знаю.
И еще — reste la question[128], был ли нарушен ночной покой господина премьера… Эта тайна так и останется inter piernitas Мари Марке (между одеялом и подушкой Мари Марке).
Если бы не было этой эпопеи — ее бы следовало придумать.
Парафраз известной фразы известного француза очень к месту.
Эпопея развернула передо мной такую динамическую фреску Парижа, какой мне никогда бы не узреть простым туристом!

{210} Дама в черных перчатках[ccxxiii]
Есть с детства милые вам призраки.
Смутные видения,
обычно женские.
Очень часто — это память о рано разлучившейся с вами матери.
Иногда — смутное предощущение облика будущей избранницы любви.
Тогда о них пишут, как писал молодой Гете, стихи an eine unbekannte Geliebte — еще неведомой возлюбленной[ccxxiv].
Однако это вовсе не обязательно.
Подобный романтический облик может запасть в юные мечтания и от случайного впечатления.
Особенно если в этом впечатлении окажется нечто от природной склонности или предрасположения воспринимающего.
И совсем интересно, что это романтическое видение — вовсе не обязательно лирико-романтическое, как призрачно-голубоватое видение доброй феи со стеклярусом над колыбелью. Оно может принадлежать и к другой составляющей романтику — к наиболее ее обаятельной стороне — иронии.
Такое видение иронической феи с очень ранних лет витает надо мной.
Фея носит черные перчатки выше локтя.
Имеет конкретный адрес в Париже.
Конкретные контракты в кафе-консерах[129] Франции.
И с незабываемой четкостью контура и абриса живет на плакатах, офортах навеки запечатленной остротой глаза одного из великолепнейших художников Франции.
Чем впервые пленил меня ее облик?
Черные ли перчатки, {211} рассказы ли отца, слышавшего и видевшего бессмертную diseuse[130] во время поездок в Париж, тексты ли ее песенок, рано почему-то попавшие мне в руки, рисунки ли Лотрека?
Потом — мемуары («La chanson de ma vie»[131]),
потом — «Искусство петь песенку» («L’art de chanter une chanson»),
затем — неуловимость.
В двадцать шестом году в Берлине она концертирует, одновременно сыграв Марту Швертлейн в «Фаусте» Мурнау. И только что, за несколько дней до моего приезда, уехала во Францию.
В двадцать девятом году я опаздываю на ее концерт в Париже ровно на три дня.
Fatalité[132]. Принцесса Грёза в черных перчатках[ccxxv] — неуловима.
Но тем не менее мы встретились.
Было томительно скучно.
Хотя это был Париж.
Меня высылали из этого чудного города.
По подозрению в коммунистической пропаганде.
Позднее мне Бертло показывал секретный рапорт Кьяппа обо мне.
Самым пленительным пунктом моей подрывной деятельности (наравне с тем фактом, что все советские картины сделаны мной!) была строчка о том, что «Mr. Eisenstein par son charme personnel»[133] вербует друзей Советскому Союзу.
Томительно-скучно в гостинице.
Кто-то хлопочет о продлении пребывания.
Надо ждать телефонных «мессажей»[134].
Бульвар Монпарнас еще не лиловеет в голубых сумерках.
«Жокей» наискосок от меня еще не зажигается огнями. «Куполь» и «Ротонда» еще не становятся магической феерией ночи.
Скучно.
Скучно в этом Париже Домье и Лотрека, Малларме и Робида,
«Трех мушкетеров» и Иветт Гильбер…
{212} Tiens![135] А почему бы не позвонить ей?
Моей фее в черных перчатках?
Так прямо,
без интродукций,
без общих знакомых etc.
Номер телефона не засекречен.
Никаких «Фе Ша», за которыми скрывался носитель этих инициалов Федор Шаляпин.
К телефону подходит мадам сама.
«Ну что вы? Как можно было подумать! Конечно, я вас знаю. Я же не американка!»
Через день я у нее.
«Денег, денег. Берите с них громадные деньги. Вы едете в Америку. Берите с них (в интонации: дерите) как можно больше денег!»
Дам Иветт не любит Америку. (Эпизод с морской болезнью[ccxxvi].)
И дам Иветт любит деньги.
Этим полны ее мемуары.
Драки за контракты. Повышения. Скандалы.
Дам Иветт любит солидные вложения.
Ее салон — почти что склад, магазин, пакгауз вещей солидных, стоящих.
Мраморные столики и лампы.
Золоченые стулики и фарфор.
Бронзовые вазы.
Все немного старомодно, но добротно.
Все стоит, рассчитанное на в восемь раз большую площадь.
Как египетский отдел Британского музея, где экспонаты стоят в шесть рядов, закрывая мумией мумию.
Стены завешаны картинами вплотную. (Портреты в черных перчатках.)
Так завешан знаменитый ресторан в Нью-Йорке, где вы едите «тендерлойнс»’ы[136], рассматривая по стенам и по потолку бесчисленные фото с нескончаемых катастроф на скачках.
Впрочем, нет. В отличие от ресторана потолок гостиной дам Иветт — свободен. Если не считать нескольких люстр, раскинутых применительно к разноскомпонованным уголкам гостиной.
{213} Может быть, нескольких люстр одновременно в гостиной и не висит.
Может быть, это вырастают мохнатыми абажурами девятисотых [годов] лампы настольные и лампы на высоких ножках, прямо от пола и прямо в потолок.
Но гроздья люстр, как в магазине, — тот образ, который, напрашивается для характеристики.
Мадам в отчаянии.
У нее насморк.
Иначе она бы спела мне весь свой репертуар.
И Dieu sait[137], как я обожаю этот ее репертуар!
Я охотно верю.
Мой визит — если не певческое матинэ[138], то драматическое — несомненно.
Рыжеватый парик.
Нос трубой.
Чрезмерный жест.
Преувеличенный шаг.
Все сливается с трубным гласом декламации, вырастающей из норм разговора.
Апре-миди[139] — сплошной спектакль.
Перед уходом мне стыдливо всучивается томик… Захер-Мазоха. «Почитайте в пути».
Томик, посвященный Екатерине[ccxxvii].
«Если вздумаете ставить… Есть Екатерина».
Теперь мне понятен спектакль.
Мадам демонстрирует товар лицом.
И именно поэтому Екатерина во всех видах проходит передо мной в течение памятной апре-миди.
Мадам нравится одноактный Шоу на эту тему[ccxxviii].
«Elle est vieille!»[140] — рычит мадам.
И, властно рассекая воздух рукой, показывает, как императрица из шеренги рослых гвардейцев цепкой ухваткой извлекает самого рослого и самого красивого.
Преувеличенный жест красноречив.
Видишь перед собой шеренгу.
{214} Ее тяжелая походка измеряет ее длину.
Видишь счастливого обладателя благосклонности императрицы.
Цепкая рука привлекает к себе счастливца. Или обреченного.
«Mais pas trop vieille»[141], — слабо протестует из глубины очень неглубокого кресла доктор Шиллер — муж.
Он такой хрупкий, маленький.
Похожий на степную мышь, суслика или тушканчика, он утопает в любом кресле,
даже в миниатюрном (стильном, добротном, правильно расцененном) сером и золотом «луикэнзике»[142].
В этом вздохе целая драма.
Угасающий романтизм доктора.
И трезвая бабья рассудительность реалистки Иветты.
«Sarsey m’a dit»[143].
(Боже мой, Сарсе! Осада Парижа. Семидесятые годы! Может быть, следующим упоминанием будет… Рабле или Сен-Симон?!) «Tu est folle, Yvette! On te sifflera!»[144]
Это она рассказывает, как, исполняя что-то о гильотине (вероятно, Ксанрофа), она выходила в рабочей шапке (эти «каскетты» рабочих обессмертил Стейнлен) и красном шарфе.
В шапке был спрятан кусок свинца.
И когда падала с гильотины голова в песенке, Иветт с глухим стуком роняла эту casquette.
«И что же вы думаете? Публика ломала скамейки от восторга!»
Потом верхняя часть лица дам Иветт начинает закрываться белыми полумасками.
Они разные.
Забавные и характерные.
Передо мной проходят avant la lettre[145] замыслы великой артистки.
Она готовит номера в полумасках.
От движений и игры полумаски оживают.
Кажется, что это не {215} Иветт, а они корчат рожи.
То зловещие, то смешные…
Когда-то Миклашевский (кажется, в дальнейшем ставший невропастом в Италии) на сцене Троицкого театра (Троицкая улица в Петрограде) читал доклад об игре маски. И, выхватывая из-под пульта маски, надевая их на себя, заставлял игрой меняться их мимику.
В глубине — стол президиума.
Почтенный. Как мистики в начале «Балаганчика».
Но я помню и вижу из членов его лишь одного[ccxxix].
Другие словно исчезли в прорезах собственных картонных бюстов,
провалились в памяти, как те проваливались в «Балаганчике».
Единственный, — вы угадали.
Божественный. Несравненный.
Мей‑ер‑хольд.
Я его вижу впервые.
И буду обожать всю жизнь.
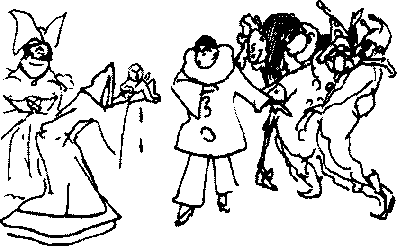
{216} Учитель[ccxxx]
Голубое распятие опрокинуто под лакированный треугольник «бехштейна».
Цвет. Фактура черного лака. Стекло. Тем не менее это не контррельеф[ccxxxi].
Это Мейерхольд раскинулся в прозодежде[ccxxxii] на ковре под роялем.
В руках рюмка. Хитрый прищур глаза сквозь стекло.
1922 год.
Слева толстые ноги Зинаиды[ccxxxiii], туго обтянутые шелком черного платья.
Нэп.
В ногах у мастера — я.
«Театральный Октябрь»[ccxxxiv] на стадии «Рогоносца».
На моих ногах — калачиком — Аксенов.
Спит.
Стадия Аксенова — безбородость.
Рыжая борода лопатой, развевавшаяся агрессивным стягом из-под контура древнего шлема буденновца[ccxxxv] снята.
Женат на конструктивистке Поповой.
Авторе той нелепой смеси галифе и клеша голубого цвета, которую все почтительно именуют «прозодежда».
Непривычен абрис головы Аксенова без бороды.
Лицо асимметрично.
Воспаленные круги глаз, когда открыты.
Сейчас закрыты.
И кажется, что рыжеватые остатки пуха растут прямо из костной основы лица, лишенного других покровов.
Глаз мастера щурится.
Голова запрокидывается.
В неповторимых пальцах почти парит рюмка.
«Айседора Дункан мне сегодня сказала, что в прозодежде я {217} похож на голубого Пьеро…»
Признание залетает не дальше меня и не выше колен Зинаиды.
Тайна остается в доме.
Прозодежда. Биомеханика. Индустриализация театра. Упразднение театра.
Внедрение театра в быт[ccxxxvi]…
Два года пулеметного треска вокруг кричащих направленческих лозунгов.
Бешеная полемика против приезда Дункан.
«Понедельники “Зорь”»[ccxxxvii].
Аудитории, раздираемые надвое.
Сколько пылающих вокруг этого юным энтузиазмом.
И все — не более чем случайная, чем новая, чем перелицованная личина все того же Пьеро.
Наискосок от длинного стола мистиков Пьеро-Мейерхольд сидит в прологе «Балаганчика».
Голубой набросок [Ульянова] напоминает нам его.
Воспоминания старика-незлобинца Нелидова рассказом дополняют.
Дудочка. Дудочка!
Как он играл на дудочке.
Стоя на одной ноге.
Обвернув вторую змеей вокруг.
Голубой Пьеро — носитель режиссерского замысла — выпархивает между длинных полос головинского занавеса в «Маскараде»[ccxxxviii].
Бледное личико между свисающе-длинными рукавами. Резкие отсветы пятнами от свеч.
И третья личина.
Голубой бред из клеша и галифе девицы Поповой.
Но он один. Неизменяем. Вечен.
Меняются голубые личины.
Меняются поводы для гробов, опускаемых со стен осажденных городов.
Вчера в гробу предполагалась Коваленская. Сегодня — Закушняк.
Меняются и города.
Сегодня — это осажденная Сеута[ccxxxix].
Завтра — обложенная Оппидомань[ccxl].
Сегодня — это эмоционально повышенный речитатив революционных реплик Верхарна.
{218} Вчера — каденции католического речитатива Кальдерона.
Обозначение речитатив приобретает от контекста.
А в сущности, один.
Лексингтон-авеню — это негритянская Пятая авеню.
Центральная улица Гарлема.
Справа — дансинг.
Слева — методистская церковь.
Там — дом греха.
Здесь — дом спасения.
Там — изживается плотоядность в неподражаемо прыгающем ритме.
Здесь — богоозаряемость протекает в том же самом вздрагивании членов.
Экстаз знает только одну формулу захвата человека.
От бога ли, от дьявола ли опьянение одержимости — ритмический вздрог один.
Пафос — един.
И пафос в сущности своей — сверхтемен.
По природе своей — по ту сторону от предмета темы и содержания.
В случайно оставшейся не сожженной единственной дошедшей книжечке истинных откровений в состоянии экстаза святой Игнатий себе в этом сознается.
Сперва Великое Это.
Затем оно облекается в образ божественного.
Неудивительно, что католическая мистерия освобожденной Сеуты и революционно-мистическая Оппидомань декламируют о себе схожим регистром речитативов!
К тому же: кто вздумает сравнивать?!
Те, кто рукоплещут «Зорям», не помнят «Стойкого принца».
Те, кто любовался «Стойким принцем», вряд ли ходят на «Зори»…
Тем, кто знает оба спектакля, вряд ли взбредет кощунственная мысль или подобное подозрение.
Мейерхольд, конечно, Протей.
И «Рогоносец», вечер интермедий на Бородинской[ccxli] или «Лес» — всегда неизменно одно и то же.
Взлетают и слетают парики и личины.
Сегодня они — музейно-пышный «Мир искусства»[ccxlii], завтра они сброшены в мусорный ящик истории, послезавтра возрождаются золотыми, зелеными, фиолетовыми, клеенными из овчины {219} [париками], в чем задыхается на первых спектаклях «Леса» Восьмибратов — Захава.
Беспринципность?
Принципиальность?
Ни то, ни другое.
Воплощение принципа.
Принципа театра.
Его переливчатости. Сверкания.
Перевоплощаемости.
Магии.
Хитрый глаз мастера поблескивает сквозь тонкое стекло стакана.
Витого и высокого.
Чрезмерно тонкого.
Чрезмерно высокого.
Чрезмерно витого.
Как хозяйка его.
С выбритыми бровями.
И нанесенными тушью крыльями от переносицы полукругами в лоб.
Высоким черным воротником.
Талией, кажущейся уже воротника.
Людмила Гетье.
Балерина.
Повод к неизменным шуткам:
муж — боксер[ccxliii].
Слишком пухл и красив.
Жалеет лицо, как воины Помпея во время битвы при Фарсале,
как воины Помпея — чаще бит[ccxliv].
Он рисуется шоссейным катком, проехавшим по чрезмерно тонкому стану супруги.
* * *
«Приведите с собою фотографа.
Пусть знает мир, что сделали с Мейерхольдом…»
В доме на Новинском бульваре, № 23 помещается наш институт — мастерские Мейерхольда, ГВЫРМ[ccxlv].
Кругом густо живут в этих двух с половиной этажах.
{220} И кажется, что каждая стенка как будто из картона и достаточно ее надрезать, чтобы в наши залы посыпались неисчерпаемые предметы домашнего обихода: бельевые корзины, табуреты, корыта, птичьи клетки.
Под крышей живет мастер с семьей.
В полуподвале пустая, заглохшая кухня.
Сегодня Мейерхольд как-то особенно по-курчавому седой.
Может быть, от кричащей коричневой зелени драной шинели, в которую он кутается.
У мастера необыкновенное качество — заворачиваться в самые необыкновенные одежды.
Ухитряясь не уронить с ног ночных туфель, он, прыжок за прыжком огибая углы заворотов игрушечной лестницы, слетает вниз.
Еле поспеваешь за его юношеской прытью.
Догоняешь его в кухне.
«Зовите фотографа!»
Поза…
Простите: ракурс.
(Сколько пламени, страсти излито на дисгрессию[146] этих понятий: промежуточной стадии движения — ракурса — в отличие [от] мертвой неподвижности — позы!)
Ракурс готов.
Дрожа, на плите лежит несчастный старик.
Кто бы сказал, что лордом Генри вот этот самый старик в «Дориане Грее»[ccxlvi] воплощает безупречного денди, клюв в клюв, качаясь в кресле, глядя на попугая?
Он съежился. Сморщился.
Ушел в поднятый выше ушей воротник.
Челюсть подвязана тряпкой.
Длинные пальцы глубоко вкопались в рукава шинели.
«Пусть знают все, как обходятся с Мейерхольдом…»
Пока что с Мейерхольдом ничего особенного не сделали.
Однако:
Тео Наркомпроса, которое Мейерхольд уже не возглавляет[ccxlvii], сегодня отказало ему в смете по ремонту его театра…
«Пошлите за фотографом…»
{221} Прощай[ccxlviii]
«Последний раз я видел Вас так близко…»[ccxlix]
Почему эта пошлая фраза, предшествующая образу еще более пошлого «лилового негра» и пошлой рифме «Сан-Франциско», приходит на ум, когда хочется записать боль последней встречи с ним? Боль за обстановку этой встречи. Боль, быть может, помноженную на острое предчувствие, что эта встреча последняя?
И как ни странно, вероятно, эта первая строка пришла на ум именно не [сама] по себе, а из-за второй.
Именно из-за той, где действует кошмарный «лиловый негр».
Ибо этот «лиловый негр… вам подает манто».
В «манто»-то и дело.
А строчка цитаты возникла так, как, видимо, возникали эпиграфы у Пушкина: эпиграфы Пушкина, в которых следует читать вторую — непроизнесенную — строку, которую неминуемо на ум приводит строка первая — записанная.
Эту особенность пушкинских эпиграфов подсмотрел неисправимый литературный voyeur[147] Шкловский[ccl]. (Обозначение, может быть, и обидное, но точное. And I do mean it[148]!)
Конечно, это не было манто.
Это было обыкновенное, темного цвета пальто.
Мужское.
И ничего особенного с этим пальто, по существу, не происходило.
Его набрасывал один человек — ростом поменьше — другому человеку — ростом побольше.
И разница была между ними лишь в том, что один держался прямо — немного прямее, чем нужно, — и это придавало ему характер вызова.
{222} А другой — значительно более высокий — имел фигуру надломленную, и казалось, что пальто, накинутое на его плечи, только увеличивало груз, который давил эти плечи к земле.
Вызывающая осанка первого, подававшего второму пальто, — и руки, протягивавшие этот кусок скроенного сукна, — не случайно носили такой отпечаток.
В самом действии действительно был вызов.
Руки слегка дрожали. От боли. От горечи.
От горечи и боли, которые испытываешь за унижение другого.
За унижение другого. Глубоко любимого. Обожаемого…
Руки дрожали.
Дрожали еще и от сознания того, что не пальто протягивать первому — достоин второй, но недостоин развязать ремни сандалий на ногах его…
Впрочем, ноги другого были плотно одеты в галоши.
До этого они ступали по белым плитам, покрытым красным ковром.
Носок сапога входил в носок галоши.
И сейчас один сидел в другом плотно.
Впритирку.
Но от этого ничего не менялось.
Руки дрожали.
В сознании развязывались ремни сандалий.
И будь под их ногами не квадратный булыжник мостовой сердца Москвы, обнесенного стенами, а пыльная дорога Сирии или Палестины, молодой человек, подававший пальто, вероятно, благоговейно прикасался бы концами губ к пыли следа, оставляемого за собою твердою поступью ноги согбенного учителя. И будь в руках его порфира и виссон, ученик покрыл бы мученические плечи учителя именно ими и на раны возлил бы утоляющие боли масла… Но сукно — не парча.
И кто сказал, что пальто подавал молодой человек?
Этому молодому человеку за сорок: фигура его, как говорят портные, — корпулентная.
И если он два дня сряду не пройдется гулять, на лестницу он станет взбегать (по дурной привычке молодости он всегда бежит по лестницам) с неизменной одышкой и сердцем, клокочущим в груди не от одних чувств…
И… quand même[149].
{223} А может быть: tant pis[150].
Купола соборов такими писал Головин[ccli].
Резко освещенными снизу и с острым концом луковиц, уходящих в темноту синего ночного неба.
Туда же уносился, вонзаясь в небесные своды, Иван Великий.
У подножия его мы казались особенно маленькими…
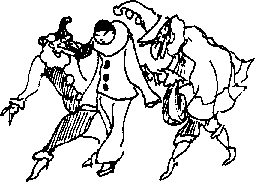
{224} Сокровище[cclii]

Ржавчина.
Сухая и рыжая, кажется, покрыла собою все.
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 363; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!