
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Ганс. Колетт 4 страница
|
|
|
|
При этом глаза искрятся ничем не прикрытой ненавистью.
Мы с Штернбергом смеемся в кулак…
Он снимает «Голубого ангела» и потом показывает мне свои «rushes»[159] дублей по двадцать.
Пристрастие к крупным мужланам, вероятно, несет Штернбергу какую-то компенсацию.
В Берлине он даже живет в «Херкулес Хотель», около «Херкулес Брюкке», напротив «Херкулес Бруннен». Отель Геркулеса через мост Геркулеса напротив фонтана Геркулеса с огромной серого камня статуей Геркулеса…
А «Доки Нью-Йорка» прекрасная картина.
На дворе у «Парамаунта» в тридцатом году еще стояли облупившиеся и обветренные декорации доков. По декорациям видно, как умно из них светом и кадром сделаны эффекты экрана.
Сейчас мимо них пробегают мальчишки
во главе с «вундеркиндом», переростком, моим сослуживцем Джекки Куганом[cclxxi].
{242} Джекки уже далек от неповторимого обаяния kid’а[160], но еще не дошел до образа отвратительного полысевшего верзилы, каким он сейчас (1946), вернувшись с фронта, работает entertainer’ом (развлекателем) в каком-то из ночных кабаков Лос-Анжелоса.
На эти фотографии смотреть и больно, и постыдно: он пародирует себя в роли kid’а…
Бывают случаи непростительного кощунства.
Но в тридцатом году он, по-моему совершенно некстати, снимается Томом Сойером и во главе других мальчишек бежит к своей декорации.
Не могу представить себе Тома круглолицым, с коричневыми глазами, округлым и упитанным.
У первого экранного Тома, еще немого[cclxxii] — брата Мэри Джека Пикфорда — была необходимая угловатость движений и какая-то подходящая втянутость щек.
Где-то в папках лежит письмо ко мне от Фэрбенкса периода моей работы над сценарием «Американской трагедии»: Дуг очень рекомендует его на роль Клайда Гриффитса.
Клайда Гриффитса он у меня не играет.
И не только потому, что я в дальнейшем не ставлю «Американскую трагедию»…
Клайда в дальнейшем играет (и очень плохо) актер Холмс в постановке (и тоже очень плохой) того же Штернберга…
Это настолько плохо, что я картину не досматриваю до конца.
А Теодор Драйзер судится с «Парамаунтом»[cclxxiii].
… Яннингса я в этот раз вижу не впервые.
За три года до этого, когда я в Берлине еще как «простой смертный», я его вижу на съемках «Фауста» в Темпельгофе[cclxxiv].
Визитную карточку Эгона Эрвина Киша, видавшего «Броненосец» в Москве, с пламенной рекомендацией Яннингсу пересылают вверх на скалу, где он величественно позирует в сером плаще принца преисподней.
Истинно королевским кивком головы он дает мне понять, что я имел честь попасть в поле его зрения.
В двадцать девятом [году] он горячо меня убеждает ставить второго «Потемкина».
На этот раз — фаворита Екатерины.
Конечно, с ним в главной роли.
{243} «У Потемкина был один глаз. Если фильм будете ставить вы, — я вырву себе глаз!»
В Голливуде моим первым супервайзером был милый Бахман, специалист по «европейцам», провернувший в «Парамаунте» все фильмы с Яннингсом и сломавший себе шею на «Маленьком кафе»[cclxxv] другого берлинца — Лювига Бергера с участием Мориса Шевалье.
«Пока снимается картина, супервайзер ломает себе голову, а когда картина готова — ломает себе шею, если картина принесла меньше, чем предполагалось».
Так случилось с «Пти кафе».
Бергер укатил обратно в Европу.
А Бахман вылетел из «Парамаунта».
Я видел его еще месяца три после этого.
Работы за это время он себе не находил…
А я в супервайзеры получил личность весьма примечательную — Горацио Ливрайта.
Горацио Ливрайт в прошлом издатель.
Не только крупный.
Но почти неизменно связанный со скандалами.
Скандалы не всегда политические.
Это он издавал «скандальные» романы Драйзера.
В частности — эту самую «Американскую трагедию», которую мне не дают ставить, боясь скандала… политического.
Роман запрещали за оскорбление нравов: внебрачные отношения Клайда и Роберты, попытки аборта (и скрытая пропаганда в его пользу), убийство на этой почве…
Боссы «Парамаунта» мечтали из «сенсационного» романа сделать обыкновенный (just another), хотя и драматический рассказ на тему «boy meets girl»[161], не вдаваясь ни в какие «лишние» соображения.
Со мной они влетали в еще худшее.
Меня интересовали тут картины общества и нравов, толкающие Клайда на все то, что он делает, и затем, в ажиотаже предвыборной горячки в интересах перевыборов прокурора, ломающие Клайда.
Освобожденный от Ниагары словесных потоков и описаний Драйзера, роман очень сжат, очень свиреп и крайне обличителен.
{244} Удивительно, что от самого Ливрайта впечатлений не осталось никаких.
Ни от первой встречи — за завтраком у Отто Эч Кана.
Ни от встречи-совещания в Беверли-Хиллс у меня.
Последняя запомнилась разве тем, что она заставила меня в третий раз (!) с моей стороны (!!) пропустить встречу с Гретой Гарбо.
Встретиться с Гарбо (да еще в обстановке съемки!) вообще было делом почти невероятным.
И особой привилегией подобного разрешения я обязан нашей общей (с Гарбо) приятельнице — Залке Фиртель, жене режиссера Бертольда Фиртеля и одно время менеджерши скандинавской звезды.
Я называл ее Гарбель (beau — bel. Gar-beau, Gar-bel[162]).
Она меня ответно — Eisenbahn[163].
Это было уже позже, когда мы все-таки встретились.
Это было в период их взаимного увлечения с режиссером Мурнау. Я помню их обоих раскинувшихся в оживленном tête‑à‑tête во всю ширь зеленого сукна на бильярде дома Людвига Бергера.
Гарбо никого не допускала на съемки в ателье, так как, почти не владея никакой «школьной техникой», играла — и как изумительно! — только по наитию.
Как известно, наитие находит не всегда.
И тогда работа заменяется истерикой и слезами.
Труд актрисы для Гарбо был тяжелым хлебом.
Очень удивительно, но как-то в таком же роде — all’improviso[164] — и от репетиции к репетиции не совершенствуя раз избранного варианта, но сверкая все новыми и новыми вариантами, играет, репетирует и снимается и Чаплин.
Из ста вариантов у гениального артиста не может не быть несколько гениальных! — их он и отбирает, сидя в знаменитом маленьком черном клеенчатом кресле в просмотровой комнате.
Если недостаточно — он снимет еще.
А если он будет не в настроении снимать, он укатит на яхте в {245} обширные просторы Тихого океана и вернется к пленке, камере, декорациям и товарищам по работе, беспрекословно ожидающим его, тогда, когда внутренняя потребность снова вернет его в ателье…
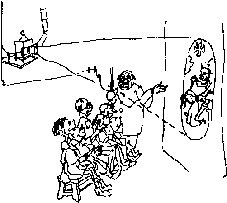
{246} Чарли Чаплин[cclxxvi]
Конечно, самый интересный человек в Голливуде — Чаплин.
Некоторые говорят, что единственный. Может быть, да, может быть, нет. Во всяком случае, не об этом сейчас речь. Речь о том, как я, волнуясь, ехал в 1930 году из Нью-Йорка в Лос-Анжелос и как из всех людей, которых мне предстояло встретить, меня больше всего интересовала встреча с Чаплином. В то отдаленное время я еще не до конца изжил в себе формализм[cclxxvii], а потому меня больше всего интересовал вопрос: как — в какой форме произойдет наша первая встреча?
Экспресс «Нью-Йорк — Лос-Анжелос» идет четверо суток, пересекая своим бегом песчаные равнины и плоские красные холмы Аризоны. Делать в поезде совершенно нечего, если не считать за дело покупку поддельных кустарных вещей на станциях индейских заповедников. Фантазия имеет сколько угодно времени, чтобы рисовать себе любые картины будущей встречи. Фантазия, как всегда, начинает работать аналогиями: вспоминаются другие встречи. От первых до самых свежих. От фон Штернберга в Берлине за несколько месяцев до этого до Дугласа Фэрбенкса — за несколько недель. […]
Как мы встретимся с Чаплином?
С Дугласом, вторично, после его визита в Москву, встретились в Нью-Йорке.
Известно, что продажа спиртных напитков в те отдаленные годы в США была запрещена. Столь же известно, что, невзирая на это, все американцы поголовно пьют. Я лично не пью, но это дало мне прекрасный повод съязвить.
Въезжая в Америку, вы даете подписку ничем не нарушать и не подрывать законов, господствующих в стране. Где-то на каком-то банкете я мотивировал свой отказ выпить именно этой подпиской, вызвав бурю веселья во всех газетах!
Так или иначе, Дуглас следует не столько сухому закону страны, {247} сколько неписаной его стороне. Наша встреча в Нью-Йорке и случилась в соответствующей обстановке соответствующего заднего помещения вполне благопристойного отеля, где, однако…
Но в этом месте соображения, предвидения, воспоминания и аналогии останавливаются.
На платформе [Лос-Анжелоса] нас встречают те же самые Штернберг и Фэрбенкс, кстати сказать, абсолютно непримиримые, ибо принадлежат к разным «кастам» голливудского общества. И мы на «обетованной земле».
Как мы встретимся с Чаплином?
Через несколько дней мы едем к «Робин Гуду»[cclxxviii] с ответным визитом в «Юнайтед Артисте».
Корпус Фэрбенкса находится в стороне слева. Нас вводят в гигантский кабинет. По-моему, даже не поперек, а вдоль, то есть по длинной его стороне, необозримо растянулся письменный стол. По масштабу он сравним разве что с диваном в Царскосельском дворце, рассчитанным на три длины не слишком низкорослого Александра III. На столе груды чертежей, раскрытые фолианты, горы фотографий. Из этих джунглей высятся две пантеры из розовой бронзы. Солнце заставляет их ослепительно блистать. Рабочий кабинет явно не для работы.
И действительно, от героя «Знака Зорро» — не более, чем знак… зеро. Зеро, известно, по-французски — ноль: другими словами, хозяина, конечно, нет в кабинете.
Нам услужливо показывают на еле заметную маленькую дверь слева. Это единственное маленькое в кабинете. Но, как оказывается, — самое необходимое: открывши эту дверку, мы сразу же попадаем в родную атмосферу знакомых… Сандуновских бань. Действительно — это личная, домашняя, турецкая… баня Фэрбенкса, сияющая во всем блеске марокканских арабесок.
В центре на алом пуфе — сам «Багдадский вор». Кругом — подобие древнего Рима: монументальное розовое тело Джо Скэнка, председателя «Юнайтед Артисте», задрапированное в мохнатую простыню; немного менее монументальное — с оттенком в желтизну — тело Сида Граумана, директора крупнейшего «Китайского» кинотеатра в Голливуде. Среди них затерялся худощавый Джек Пикфорд, брат Мэри, и среди вин и фруктов еще какие-то персонажи. Со Скэнком мы тоже знакомы.
Это он приезжал в Москву, и надо ему отдать справедливость, блестяще по резкости обругал вовсе не пригодный, по его мнению, {248} план постройки студий на Потылихе[cclxxix]. Он предлагал сделать отдельные павильоны — изолированными друг от друга, а не сверстывать их в единое «монументальное» столпотворение, в котором каждый каждому будет мешать (до какой степени напрасно его не послушали, мы это чувствуем до сих пор!).
Это тот же Скэнк, который, не произнося ни единого слова, кроме как по-английски, вселил во всех уверенность своего полного незнания русского языка, чем в достаточной степени развязал языки собеседников по поводу его персоны, и затем всех сразил, распрощавшись по-русски и сообщив, что на обратном пути думает заехать навестить дедушку в Минске…
Круг рукопожатий заканчивается, и в этот момент с невообразимым грохотом открывается дверь в глубине. Подобно Богу Саваофу, из клубов облаков и пара из парильного отделения вылетает маленькая поджарая фигурка. Она похожа на экранного Чаплина, но это, конечно, не Чаплин, ибо даже детям известно, что экранный жгучий брюнет Чаплин непохож на седого в жизни Чарли. Но не успевает эта мысль пронестись в голове, не успеваешь сообразить, что он выкрашен для «Огней большого города», как фигурка уже торжественно нам представлена: Чарлз Спенсер Чаплин. В ответ на что немедленно на ломаном русском языке раздается приветственнное: «Гайда тройка снег пушистый!..» Чарли нас узнал. А Джо Скэнк любезно пояснил: «Чарли был в течение года близок с Полой Негри и полагает, что владеет русским языком».
Вот так и состоялась первая наша встреча. Предугадать, что она произойдет в предбаннике марокканского стиля, не смогла бы ни одна из самых буйных фантазий.
Но так завязалась очень милая дружба, тянувшаяся все полгода, пока шли наши переговоры с «Парамаунтом» о совмещении несовместимого: о теме фильма, который одинаково увлек бы нас как режиссеров и «Парамаунт» как хозяев…
{249} [Творения Дагерра][cclxxx]
Память хранит бесчисленные впечатления от первых встреч.
Первая встреча с Бернардом Шоу.
Первый небоскреб.
Первые встречи с Мак Сеннетом и Гордоном Крэгом.
Первый раз на метро (Париж, 1906 год).
Первая встреча с королевой платиновых блондинок Джин Харлоу на фоне павлинов, на мраморном парапете, который окаймляет подкрашенную голубую воду «свимминг-пула»[165] при отеле «Амбассадор» в Голливуде…
Первая вдова великого писателя — Анна Григорьевна Достоевская. Для этой встречи я даже впервые, еще мальчиком, специально прочел «Братьев Карамазовых», чтобы было о чем говорить с великой вдовицей. Однако разговор не состоялся, встреча ограничилась только встречей: я променял разговор на гигантский кусок черничного пирога, уведенный со стола угощений, и партию тенниса…
Моя первая встреча с кинозвездой на почве Америки. Это был…
Рин-Тин-Тин[cclxxxi] — первая звезда, с которой мы встретились и вместе снимались. Это было в Бостоне, где и он и я выступали в двух соседних кино — каждый перед своей картиной…
Первый живой писатель был дядюшка мой, отставной генерал Бутовский, писавший рассказы для «Русского инвалида».
Он был чрезвычайно скуп в быту. Настолько скуп, что умер от разрыва сердца в день национализации военных займов в 1917 году.
Не менее скуп он был и в литературном ремесле. Он не тратил, например, времени на описание природы. «… Был один из тех рассветов, которые так неподражаемо описывает Тургенев…» — можно было прочесть среди других перлов его генеральского пера.
{250} В свободное от литературы время сей боевой генерал в кровь дробил могучим кулаком челюсти своих денщиков…
И даже мой первый фильм я помню довольно отчетливо.
Это тоже было в Париже. В 1906 году.
Восьми лет от роду я впервые видел кино и впервые же — творение Мельеса[166].
Это был типичный для него полутрюковой фильм[cclxxxii], из которого я до сих пор помню затейливые эволюции полускелетной лошади извозчичьей пролетки…
Все эти первые встречи, каждая по-своему, отмечены своей остротой.
И одной из самых острых по впечатлениям первых встреч была в Америке [встреча] с творениями Дагерра.
Не знаю, то ли они мне никогда раньше не попадались в руки, то ли я не обращал на них внимания, то ли, целиком увлеченный «левой фотографией», никогда их просто не замечал.
Среди других несбывшихся постановочных проектов я в Голливуде должен был ставить историю капитана Зуттера[cclxxxiii], на чьей земле впервые в Калифорнии было найдено золото.
Как многие другие, и этот фильм не осуществился…
Однако я ради него немало изъездил Калифорнию.
Я видел и форт Зуттера в столице Калифорнии — Сакраменто.
В какой-то крупной фирме в Сан-Франциско, производившей уже не помню что, мне показывали хранящуюся там реликвию — пилу из лесопильной мельницы Зуттера, где был найден первый золотой песок.
В каких-то отдаленных местечках Калифорнии я посещал подслеповатых старушек, помнивших, как «капитан» сажал их, тогда еще крошечных девочек, на свои мощные колени всадника и заставлял подпрыгивать.
Постепенно из обрывков впечатлений и пережитков традиций (в Сакраменто, например, еще сохранились состязания в… ращении бород. Побритые в один и тот же день и час участники {251} состязания через определенный промежуток времени сверяют растительные достижения своих подбородков), из облика и обихода людей слагалось ощущение атмосферы старой Америки сорок восьмого года, Америки эпохи первой золотой горячки, Америки этапа, предшествующего гражданской войне, но вместе с тем и Америки, уже неизбежно враставшей в круг проблем, для которых эпоха Линкольна должна была оказаться эпохой разрешения одних проблем и возникновения новых.
Эти пути и перепутья проносят нас от портиков тихих провинциальных домиков с традиционными качалками и забывающимися в них в воспоминаниях старушками к суровым пейзажам, где выворачиваемый драгами щебень в виде серых холмов и гор погребает под собой зеленеющие кругом поля и луга. И кажется, что пейзаж этот говорит о том, как жажда золота пожирает органическую радость природы…
Недаром волновались мои американские хозяева, когда я темой сценария выбрал «Золото» — роман Блеза Сандрара о капитане Зуттере.
«Допускать большевиков до темы золота?..» — они качали головами и в конце концов засунули проект всей затеи под сукно.
Может быть, и не напрасно.
Уж больно остро вопил калифорнийский пейзаж окружения приисков о всех нелепостях жажды золота, что несется таким же вопиющим обличением из самой биографии Зуттера и со страниц романа о приключенческой его жизни…
Однако странствия по следам путей колоритного капитана приводят нас еще к одному портику.
Это портик местного музея.
Имя городка я уже не упомню.
Музей скромен.
И две‑три подлинные реликвии эпохи Зуттера — какие-то пуговицы, поля фетровой шляпы и, кажется, шпоры — здесь любовно окружены чем попало из того, что относится к тем же годам и эпохе.
Бисерные мешочки, подсвечники, треснувшие чашечки, вышитые картинки, каминные щипцы, сахарные щипчики.
И две‑три витринки.
И в них-то — откровение.
Впервые увиденные и понятые мною дагерротипы.
Маленькие, частью почти черные, относящиеся к периоду цинка, или с лукаво-зеркальной, подмигивающей поверхностью, {252} лишь при определенном повороте стеклянной поверхности дающие увидеть изображения, заключенные в маленькие коробочки — складни, внутри которых они обведены тонкой гофрированной рамкой из медных пластинок, тонких, как фольга.
С тиснеными букетами на наружной крышке.
И с куском живого образа, живым куском эпохи, образцом живого национального характера внутри.
Вероятно, количество прочитанного о прошлых днях Калифорнии, вероятно, бесчисленные рассказы и прежде всего полное погружение в эти ушедшие дни — оказались магическим ключом к тому, чтобы эти предки нашей нынешней фотографии вдруг с такой интенсивной жизненностью потянулись ко мне из-под запыленных стекол маленьких витрин.
Впрочем, эпитет «запыленных» — здесь не более как словесная пошлость и штамп, если «витрина», то непременно «запыленная», совершенно так же, как если «сирота», то непременно «бедная, но честная»!
Витрина — совсем не запыленная.
Наоборот — начищенная и даже лоснящаяся, совершенно так же, как линолеум пола, мебель и… сами экспонаты, которые, несмотря на всю свою древность, сверкают блеском и новизной.
«Патина времени» здесь не в моде.
И музейчик чистотой и антисептикой равняется по соседней закусочной и «драгстору»[167], по «филлинг-стейшн»[168] и телеграфной конторе отделения «Вестерн Юнион».
И вместе с тем прошлое, если не древность, другой мир, другое столетие глядит на вас живыми глазами из этих крошечных раскрытых створок, где на одной половинке — слегка облезлая и поблекшая бархатная подушечка оранжевого, вишневого или шоколадного цвета, а с другой стороны на вас смотрят глаза, проборы, кепи и бородки покроя «дядя Сэм» бесчисленных, ныне большей частью анонимных, а когда-то таких известных и именитых первых людей своих городишек, таких подвижных, деловых и деловитых американцев сороковых, пятидесятых и шестидесятых годов!
Вот они.
Их жены.
{253} Дети.
Молодые люди, пришедшие из глухой дали в первые американские города.
Вот они у начала карьеры.
Впервые часовая цепочка поперек светлого жилета.
Поза несколько натянута.
Шея немного слишком прямолинейно торчит из очень низкого выреза воротника.
Громадный замысловатый узел галстука как бы спорит с узловатостью громадных рук.
В сгибах пальцев еще как бы читается охват ручек плуга, прежде чем эти пальцы привыкнут водить еще не ручкой пера, но гусиным пером по счетным книгам контор, по кассовым книгам банков, по судейским записям юристов и юридическим документам адвокатов.
Вот они в разгар благополучия.
Линии часовой цепочки вторят поперечной складке ослепительных жилетов. Они — штофные, бархатные, вышитые. Округлость брюшка морщит и вытесняет их незыблемую поверхность.
И незыблемость кажется перешедшей в спокойный взор, потерявший широкую раскрытость удивленной юности и молодости, впервые встречающейся с жизнью.
Посадка комфортабельная.
И есть что-то подобострастное в том, как чопорное плюшевое кресло старается свои от природы неудобные локотники с максимальной комфортабельностью расположить под локти мистера со‑энд‑со[169], достигшего благополучия, признания, общего уважения.
Как зеркальце ларинголога, играет зайчиком поверхность другого дагерротипа, более раннего. Между взблесками его поверхности вы улавливаете мимолетные очертания бледных клеток.
Это — пышное разнообразие шелковых клетчатых тканей, в которые облачены жены и матери благополучных джентльменов.
Изысканные белые гофрированные чепцы шлемами охватывают не менее затейливо гофрированные локоны причесок.
Бант или шаль завершают обрамление бесконечного разнообразия лиц.
Хитроумный метод Дагерра и Ньепса постепенно вытеснил {254} прежнего американского живописца, ездившего из города в городок, от фермы к ферме, писавшего фамильные портреты в манере будущего таможенника Руссо, расписывавшего знакомыми пейзажами пространство стен над каминами и возившего картинки заранее изготовленных живописных торсов сидящих фигур в кружевных чепцах, черных шелковых в талию затянутых платьях и небрежно накинутых шалях, но… без лиц.
Лица вписывались с натуры по образу и подобию заказчиков.
Почти так же традиционны позы на дагерротипах. Но, боже мой, какое разнообразие лиц, какие животрепещущие следы биографий в этих складках лиц, двойных подбородках, морщинках около глаз, победоносно вздернутых носах людей, достигших успеха, или печальных юношеских лицах, из-под конфедератских своих кепок как бы ожидающих близкого конца в лазаретах, так безжалостно и трогательно описанных в листах записей и дневников «великого седого поэта» Уитмена, помогавшего скрашивать последние мгновения не одному десятку их в госпиталях Вашингтона…
Существует мнение — и, вероятно, небезосновательное, — что задатки любых пороков заложены даже в самых порядочных людях.
Так, например, влечение к краже.
Не знаю, как обстоит дело с людьми абсолютной нравственности, к которым я себя причислить не могу, но лично я отчетливо знаю за собой подобные острые позывы на незаконное присваивание чужой собственности.
Помню, как против воли тянулись руки к перочинному ножу, чтобы вырезать из старинного фолианта сборника фарсов Ганса Сакса титульный лист с его гравированным портретом.
Это было очень давно, в период моих первых увлечений народным театром и площадным фарсом[cclxxxiv].
Ганс Сакс был, кажется, первым автором, чьи фарсовые диалоги мне пришлось читать в оригиналах.
Это тоже была первая встреча.
И он казался мне единственным и непревзойденным.
Не знаю, какие силы еще не изжитых черт нравственной благовоспитанности удержали меня от того, чтобы не изуродовать этот уникальный экземпляр Румянцевской библиотеки[cclxxxv], хранивший портрет моего тогдашнего идола.
Вероятно, это было глухое предчувствие того, что он вовсе не непревзойденное совершенство, как и оказалось позже, когда {255} я познакомился с плеядой фарсов французских, итальянских, испанских, японских или староанглийских.
… Такой же страшный позыв электрическим током пробежал по моему спинному хребту в тихой комнатке маленького музея крошечного американского городка.
Выдавить стекло витринки!..
Непрактичная бредовость подобной затеи входит в сознание почти одновременно с самим вожделением.
След вожделения остается только в слегка раскрасневшихся от волнения щеках да в как-то особенно по-мальчишески заблестевших глазах.
Ведь яблоки, груши и орехи мальчишки воруют совсем не из алчности, а на добрых три четверти из чувства спортивного азарта!
Витрина осталась цела…
Но зато с этого дня начинается жадный, рыскающий, собачий бег по лавчонкам старьевщиков, магазинам случайных вещей и маленьким антикварным «кьюрио-шопс»[170], которых так много под затейливо изогнутыми металлическими вывесками по пути из Лос-Анжелоса в Санта-Монику или Пасадену.
И тут, к большому своему конфузу, я обнаруживаю, что пленившие меня фотообразы прошлого здесь никак коллекционерски не котируются.
И вместе с тем мало-мальски приличные экземпляры, во много раз лучше случайного набора в маленьком музее, очень часто в высшей степени дороги.
Оказывается, любители собирают не образы и картинки, а футляры-складни, в которых перевозились, разъезжали и сопутствовали владельцам эти ранние фотообразы, совершенно так же, как ныне каждого доброго американца сопровождает до определенного возраста складень с образами «поп энд мом» (папы и мамы), а после определенного возраста — такой же складень с «уайф энд киддз» (жены и детей).
Среди этих футляров-складней, действительно, есть очень интересные, не только тисненой кожи, но еще и из мастики, похожей на резной камень… Впрочем, на черта мне футляры!
Меня увлекает кусочек живого духа прошлой Америки, подобно сказочному джину, живьем ухваченному этими створками футляра.
{256} Несколько подобных староамериканских «джинов» я любовно храню в глубинах книжных шкафов.
Иногда я вынимаю их.
Стираю с них пыль.
И вот уже на время в вольных образах воображения передо мною проносятся картины как бы из этих футляров на волю выпущенных событий прошлого Америки.
Еще до капитального творения Глэдис Митчелл[cclxxxvi] или знакомства с «Антони Адверс»[171] эти чудодейственные стеклянные и цинковые пластинки наводили фантазию на воссоздание удивительно колоритного прошлого Америки, ее городов, возникавших на местах буйволовых стойбищ или становищ кочевых вигвамов индейцев, вокруг маленьких церковок миссионеров, заброшенных среди просторов девственных лесов и прерий, или на базе кораблей, которые, причаливая к прибрежной маленькой миссии имени святого Франциска, навсегда запускали якоря в гостеприимную бухту, засыпали песком расстояния от собственного борта до борта соседа, возводили на палубах этажи и становились первыми домами будущего города Сан-Франциско!
Закрывается крышечка футляра.
Защелкивается неизменный крючок.
Задвигается ящик стола или захлопывается дверка шкафа, где он хранится.
И на многие месяцы снова скрываются воспоминания о тех видениях, в которые я когда-то заглядывал, чувствами и мыслями переносясь в биографию капитана Зуттера и Америку эпохи его окружения.
{257} Музеи ночью[cclxxxvii]

По музеям вообще надо ходить ночью.
Только ночью, и особенно в одиночестве, возможно слияние с видимым, а не только обозрение.
Особенно, когда в нашей Третьяковке, например, все, вплоть до икон, опошляется казенным набором фраз профессионалов-поводырей.
Может быть, и вовсе не слепые группы посетителей, гурьбой следующие за ними, явно… слепнут от наличия поводырей.
Слепнут не потому, что поводырь — неотъемлемая часть слепца. Но потому, что эти малосимпатичные барышни с высохшим сердцем за плоской грудью, прикрытой джемпером, уводят посетителей от непосредственного видения и восприятия в сторону скучных рассуждений и недалеких умозаключений.
Мозги от этого не просветляются, а зрение — глохнет.
Еще хуже днем в международных музейных базарах.
Не могу без содрогания вспомнить Лувр.
В последние годы до войны его перестроили.
Но я еще помню его во всем банном блеске пестроты отделки залов и шумливости глубоко безразличной толпы — чем-то средним между почтамтом и фойе оперного театра.
Стены увешаны шедеврами так густо, как будто выклеены марками.
Женщины на полотнах кажутся отогревающимися в потной животной теплоте тучных стад посетителей.
Их округлые — или аскетические у примитивов — тела лоснятся фактурой холстов.
И кажется, что среди этой базарно разлагающей атмосферы эти Венеры, Дианы или Европы готовы вылезть из своих рам, как вылезают из ванн беспощадно рыхлые женщины на едких пастелях Дега, чтобы, взяв под ручку посетителя поносастее, увести его к себе за оливковые, пунцовые или вишневые занавески {258} «первых планов» покинутых ими холстов.
Если… если эти дамы прошлого не отгорожены замком и решеткой от слишком жадных рук посетителей.
Такова судьба «Джоконды» после небезызвестных похождений великой незнакомки по рукам международного жулья[cclxxxviii].
Решетка и замок кажутся поясом целомудрия, надетым на нее во избежание новых эскапад.
Однако пояс целомудрия — это уже экспонат другого музея — музея Клюни.
В этом музее прекрасные образцы Ренессанса и готики Франции.
Деревянная скульптура.
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 395; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!