
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Ганс. Колетт 8 страница
|
|
|
|
Тут же рядом укладываются театральные заметки Клейста и Иммермана.
Слова Клейста о правильном органическом движении укладываются в чувства именно здесь: «Истинно органичное движение доступно лишь марионетке или полубогу»[cccxxxii] (органичное в смысле механики, отвечающей законам природы и закону тяжести прежде всего).
Учение о «сверхмарионетке» Крэга[cccxxxiii] или первые два‑три положения биомеханики в дальнейшем лягут в это, проторенное Клейстом, русло.
… А вот из Двинска в Десну многодневным рейсом скользят две баржи, груженные строительным участком нашего военного строительства.
Среди мешков, ящиков, лопат и кирко-мотыг я вижу себя.
В руках — крошечный томик.
Автор — Библиофил Жакоб (псевдоним Поля Лакруа), которого мы все так хорошо знаем по его отдельным тяжелым, розовым с золотым обрезом томам, посвященным отдельным векам культуры и [истории] костюма во Франции.
Сухие, скверно перерисованные как для стальных, так и для литографированных цветных [воспроизведений], репродукции этих книг бездушны.
Из линий костюма, ритма ракурса фигур, пропорций выветрен неподражаемый дух эпохи, сохранившийся в скульптуре, в гобелене, в тканом рисунке, в резной кости.
Хуже их разве что бесчисленные тома «Истории костюма» Расине, из которой тоже невозможно вычитать ни движения, ни характера людей, ни манеры носить костюм, ни манеры двигаться.
Костюм можно изучать только по репродукциям с подлинных {309} картин, скульптуры, саркофагов, миниатюр, а не по этим кастрированным картинкам.
Но тексты Лакруа хороши.
Увлекательны и рассказы Библиофила Жакоба.
Как литература — они также суховаты и угловаты и не умеют передать живости и живого дыхания прошлого.
За это его ругал еще Бальзак…[cccxxxiv]
Но как информация о прошлом они увлекательны.
… Баржа скользит. Впереди предстоит строить мост и предмостные укрепления.
А пока зачитываешься тем, как в Сену проваливается Старый мост, облепленный домиками и лавчонками, как большинство мостов прошлого. (Вспомним Понте Веккио во Флоренции.)
На его месте возникает новый мост — романтический и удивительный Новый мост (Pont-Neuf).
Боже мой! Сколько романтики связано с ним!
Тут дерутся на рапирах мушкетеры Дюма.
Тут где-то с подмостков кричит Табарен: «Почему собака подымает ногу?»
Тут рвут зубы шарлатаны и продают «Орвиетан» волшебники-доктора.
Наискосок — башня Буридана, в нее я совсем недавно успел влюбиться на офорте Калло.
Посредине — конная статуя Генриха IV.
Сколько таинственных фигур в плащах и широких шляпах встречаются здесь при лунном свете на страницах романов!
Вот проскользнул Арсен Люпен[cccxxxv].
Вот твердой поступью прошел Жавер[cccxxxvi].
А вот зловещей тенью стоит Фантомас[cccxxxvii].
Вот — герой Поля Феваля Рокамболь или капитан Фракасс[cccxxxviii].
Вот в сторону своих логовищ двигаются обитатели Кур-де-Миракль[cccxxxix]. Позже в Париже мне укажут, что Cour des Miracles был как раз на том месте, где сейчас редакция газеты «L’Intransigeant».
Думы полны этой сменой Старого моста Новым…
… а сам уже носишься по берегу, выравнивая спуск к мосту, с двух концов врастающему в Десну. Посередине реки носится катер производителя работ. И мощный голос, вырывающийся из этой сутулой, в высоких сапогах и путейской шапке фигуры, звонким матом, как шрапнелью, ударяет в оба берега:
«Техник! Ра‑та‑та‑та‑та… Почему не готовы спуски?..»
{310} Техник — это я.
Неважный техник. Слишком романтичный техник, чья голова совсем не ко времени и не к месту полна Парижем XV века.
А несколько лет спустя этот же техник будет ползать по фермам под Дворцовым мостом в Ленинграде и обсуждать с мостовыми механиками, как лучше несколько раз успеть развести мост в течение того получаса — от 6 часов до 6 [часов] 30 минут утра, когда мосту положено подыматься.
Солнце занимает нужное положение в 6 часов 10 минут. Мост должен быть опущен в 6 часов 30 минут.
Иначе трамваи опаздывают на Финляндский вокзал и ответный ток пассажиров из пригородов опаздывает на заводы и фабрики.
Мы это знаем хорошо!
В последний день работы, обманув бдительность механиков, увлеченных действием наверху, мы задержали челюсти моста раскрытыми на десять минут дольше.
И что было скандалов, срывов работ, опозданий и неприятностей!
Но, ей-богу, нельзя нас винить!
У нас всего-навсего двадцать минут в день.
И за эти двадцать минут надо:
и убить белую лошадь, бешено мчащуюся с извозчичьей пролеткой,
и дать упасть златокудрой девице,
и дать начать расходиться половинам моста,
тянуться золотым волосам над бездонной пропастью, повисать убитой лошади и пролетке на вздымающейся в небо лопасти моста,
срываться пролетке…
На экране это мелькнет даже не в двадцать минут.
А на съемку нужны часы!
И день за днем по двадцатиминутной «столовой ложке» съемки выколачиваем мы кусок за куском монтажные фрагменты сцены, увенчивающие расстрел 3 – 5 июля 1917 года на углу Садовой и Невского.
Угодно же было Господу Богу, чтобы, просияв в Зимнем дворце в библиотеке Николая целую ночь «интерьеры» для сцены штурма дворца, я под утро высунулся в окно и увидел гигантские лопасти Дворцового моста, как руки утопающего, воздетые к небу.
{311} И вот уже в порядке видения лопасти моста обрастают разбитой пролеткой, подстреленной лошадью, а скользящие по ним золотистые лучи становятся волосами погибающей златокудрой девушки…
Вот почему для съемок наиболее сильной сцены в картине «Октябрь» бывший техник лазает по механическому чреву Дворцового моста и спорит с механиками о возможностях ритма и темпа разводки моста.
Потом мост разрастется в символ,
в символ разъединения центра города и рабочих окраин в июльские дни.
В прямом — тактическом — смысле, но и в том смысле, что рабочие массы в июле семнадцатого года еще не до конца сплочены вокруг организующего ядра большевиков.
А это вызовет к жизни для начала октябрьского дня картину другого моста — на этот раз соседа Дворцового — Николаевского. Рядом с ним стоит историческая «Аврора». Она специально пожаловала к нам из Кронштадта, чтобы принять участие в воссоздании событий живой истории.
Николаевский мост вертится по горизонтали.
И резкий его поворот на замыкание, на соединение районов и центра, вопреки приказу Временного правительства и на этот раз развести мосты, начнет собой каскад событий, навсегда резко повернувших ход истории.
Маленький Банковский мост через Крюков канал с золочеными грифами не останется в обиде.
Он повторит в пародийном аспекте мысль о единстве и солидарности.
Это в середине его вырастет громадная фигура матроса — брата тех матросов, что сводят воедино Николаевский мост, и балтийского потомка тех черноморцев, что проходили на «Потемкине» сквозь адмиральскую эскадру. Одним подъемом мощной ручищи он обратит в бегство процессию старцев — последний оплот сторонников реакции во главе с городским головой Шрейдером.
Крикливо и кичливо идут они к Зимнему дворцу на поддержку своих ставленников и носителей своих идеалов — покинутых бежавшим Керенским «десяти министров-капиталистов».
И мокрыми курами драпают они мимо невозмутимых грифов по узеньким мосткам между Казанским собором и Государственным банком, такие же жалкие, как жалок размером этот {312} мостик в сравнении с Троицким и Литейным, Дворцовым и Николаевским, по которым лавиной движутся из-за невских рабочих районов мощные потоки победного пролетариата.
Так, случайно схваченный на рассвете, силуэт разведенного моста вырастает в образ, разветвляется в систему образов, подымается до символа двух протянутых друг к другу в крепком пожатии рук и входит структурным каркасом в построение целого фильма.
Только перегруженность подробностями и спешка, мешающая монтажно отчеканить окончательную форму фильма, скрывают эту структуру настолько, что она ускользает от анализа даже тех, которые считают «Октябрь» значительнее «Потемкина».
И эта же вечная киноспешка просто губит еще один мост — Новгородский мост в «Александре Невском».
На нем была снята сцена известных кулачных боев между Софийской и Торговой частями древнего города.
По линии личного сюжета здесь впервые романтически встречаются Васька Буслай и Василиса. И здесь в разгар драки впервые Васька восторженно кричит: «Хороша девка!» — получив от Василисы с полного размаха в зубы.
Мне очень жаль этой лирической завязки отношений двух романтических героев. Мне очень жаль и тех отчаянных ребят, что в октябре месяце летали с моста в холодную воду пруда на Потылихе, через который был переброшен этот мост «через Волхов».
Но больше всего жаль, что в корзину полетела вся сцена.
Торопясь к сдаче в срок, мы не могли задержаться на том, чтобы доработать в монтаже и звуке этот эпизод.
Наступит ли в кинематографе когда-нибудь время, когда поймут, как важно время не только в секундах на экране, но и творческими часами за монтажным столом, днями звукозаписи, неделями перезаписи и отделки готовых фильмов?!!
Ведь в эти дни-то и вьется самая тонкая, жизненная и живая ткань организма фильма, и в сложных ходах звукозрительного контрапункта родится законченный фильм!
… Интересно, что и само увлечение принципом контрапункта как сочетания бесчисленных самостоятельных отдельных действий, сплетенных в строгое очертание временем, родилось у меня из мостовых работ,
из живого соучастия в учебной постройке понтонных мостов {313} через Неву в лагере школы прапорщиков в Ижоре.
Это было тоже в семнадцатом году, — но в семнадцатом году не экранном! — а подлинном.
Незадолго до тех месяцев, когда с винтовкой в руках мы стояли в мглистом ночном карауле, всей школой охраняя один из подступов к Петрограду от ожидавшихся полчищ Корнилова и «Дикой дивизии».
И даже тут я помню — в кармане шинели, по другую сторону от кобуры на поясе, на всякий случай — томик «Путевых заметок» Дюрера.
От времени до времени мы ходили греться в запрятанную будочку, где что-то коптело фитильком!..
В «Александре Невском», чтобы выгадать длину, мост был косо переброшен через студийный пруд.
Интересно, что не логика, а воспоминания заставили это сделать!
Есть такой реальный мост, но здесь, наперекор и логике, и стихии, он тоже перекинут наискось через реку. Это — мост в городе Люцерне.
Крытый крышей во всю свою длину.
С бесчисленными картинами маслом, свисающими под крышей через каждый пролет, он не может не поразить очарованного странника по Швейцарии своим косым положением через реку.
Объяснения этому странному явлению я так и не получил.
Сострил, дразня швейцарцев, что они, по-видимому, выстроили слишком длинный мост и, перекрывая им реку, иначе не могли его уложить от берега к берегу.
Затем забыл.
И вспомнил о нем уже на «Невском».
… Однако временный мост наш через Десну прямой, как струнка, и если немного волнист в отношении профиля, то разве оттого, что по-разному оседают козлы в разных частях речного дна.
И есть под чем оседать козлам!
Ночью будят нас грохот и шум.
Лязгая, с откосов торопятся лафеты.
Громыхают зарядные ящики.
Подпрыгивая, катятся пушки.
Треск.
Крики в темноте.
Затор.
{314} Проломился пролет.
Он не был рассчитан на отступление.
Его строили для продвижения вперед.
Сейчас на него обрушилась ночная паника.
Но в дело вступают уже не растерянные мобилизованные жители города, а отборные саперы.
В полной темноте они возводят пролет.
Мелькают спины,
топоры,
балки.
И черный поток отходящих войск снова перекрещивает бегущие воды, бледнеющие отражением подымающейся зари.
Я листаю страницы «Принцессы Мален» на сваленном дереве.
Предмостное укрепление решено опоясать еще рядом окопов и колючей проволоки. В песке трудолюбиво роется местное население, с трепетом ожидая возвращения потоков, умчавшихся ночью в тыл.
«Принцесса Мален» не мешает понукать и прикрикивать, распоряжаться и объяснять, указывать и «вредно» ругаться.
Впрочем, мы отлично ладим с моими подневольными.
Кроме нескольких случаев отказа от работы, трудовых конфликтов не возникает.
Жалуется щуплый молодой брюнет в дымчатом пенсне, допотопном соломенном канотье с полосатой ленточкой и белом в полоску костюме. Он худощав и странно прыгает.
Вероятно — симулянт.
Но я ставлю его на какую-то легкую работу, не то считать доски, не то что-[то] в этом роде.
Мне не приходит в голову поизмываться над его белым костюмом.
Мне со смехом рассказывали мои коллеги, что вообще принято людей в белых костюмах ставить на «черную» работу, например выгружать уголь или возиться с колесной мазью. В черных костюмах — заставлять выгружать мел или муку.
Среди присланных есть и местечковый юродивый. Бородатый, коротконогий, в высоком колпаке. Его дразнят мальчишки по всем правилам литературного шаблона.
Не понимая их жаргона, я догадываюсь, что они убеждают его прыгнуть в воду.
Внезапно юродивый прыгает в воду и начинает изображать утку, хлопающую крыльями. Восторг общий.
{315} Население миролюбивое, перепуганное и растерянное.
В других местах бывало хуже.
Под Двинском, например, мобилизовали всех проституток. На окопах эти дамы задирали шелковые юбки и кричали, что у них такие «дни», когда трудиться нельзя.
Наперебой «предлагались», развалясь по брустверу, а потом уводили весь пригодный малочисленный мужской состав в кустарники…
Мои аккуратно роются в корневищах сосен и даже проявляют какой-то интерес к тому, как досками зашивать осыпающиеся песчаные стенки…
Конечно, ни принцессе Мален, ни маленькому Тентажилю[cccxl] никогда не снилось попасть в такую обстановку.
Впрочем, не снилось и Метерлинку, что в глубокой старости, бросив все, что он имел, ему придется спасаться от фашистского нашествия на маленькой лодочке, с одной лишь клеткой и двумя голубыми птичками в ней.
Бедного беженца из Бельгии и синих его птичек приютил Голливуд.
… Несколько недель спустя.
Снова баржа.
Потом пересадка.
Потом Полоцк…
На этот раз — «Мемуары Сен-Симона».
Не Сен-Симона — утописта, а Сен-Симона — восхитительного стилиста и мемуариста XVIII века.
Любопытно вяжутся его ироничные и злые, поэтичные и необычайно живые характеристики и портреты придворных и родственников Людовика XIV с закоптелыми, рыжими кирпичными домишками вдоль кривых улочек Полоцка.
Перекликается разве что высокий барочный костел.
Мой новый производитель работ, видимо, тоже не чужд литературы. Но скорее — Буссенара, Стивенсона и Ксавье де Монтепена.
С дикой энергией он часами раздирает лопатой внутренности подземелья старого костела.
Затхлый коридор, вода, сочащаяся из стен. Склизкие камни под ногами. Хлипкий засос, в котором воет лопата, попадая в размокшую землю позади камней. Неверный огонь керосинового фонаря. Все как на обложке Пинкертона[cccxli] или «Пещеры Лейхтвейс». Все, что угодно, не считая потоков пота и разодранной {316} гимнастерки. Но клада, клада, о котором нашептал ему кто-то из перепуганных горожан, в подпольном чреве костела, конечно, нет.
Никакой польский Кортес или капитан Кидд не скрыли здесь награбленных богатств. Не видно ни флоринов, ни дублонов, ни кубков и ни золотых канделябров…
Дольше копаться некогда.
Уже погружены подводы, и надо ехать дальше…
Покинутые три года тому назад немецкие окопы, после нелепого наступления по приказу Керенского в июле 1917 года, я рву под Ибсена.
Мне очень некогда. Я не знаю целого ряда драматургов.
«Росмерсхольм» и кардинал Никлас из «Борьбы за престол», «Строитель Сольнес» и доктор Штокман[cccxlii] — пока что еще в моем пассиве.
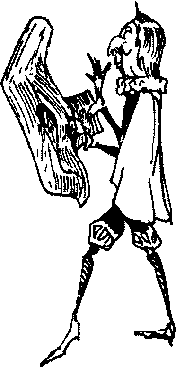
{317} На костях[cccxliii]
То, что перед нами, похоже на мертвые города Райдера Хаггарда.
А то, что валяется на подступах к их стенам, еще не воспето ни одной былиной.
Сюда три года не ступала человеческая нога.
Немцы ушли.
Население не вернулось.
Фольварки сгорели или начисто снесены артиллерией.
Нам поручено взорвать позиции немцев, ныне покинутые, о которые разбилось наступление Керенского в июле семнадцатого года.
Ждут возможного нового нашествия поляков.
Надо разрушить.
Внезапно они перед нами —
эти странные сооружения!
Они то кажутся пустынным и мертвым Брюгге[cccxliv], от которого бежало на километры море, убив жизнь богатого приморского города,
мертвым Брюгге, по пояс зарывшимся в землю и втянувшим в себя торчавшие из него трубы.
То, наоборот, они кажутся подземным мертвым городом Хара-Хото, открытым русским путешественником Козловым[cccxlv], но мертвым Хара-Хото, по пояс высунувшимся из тибетского подземелья и выпустившим на волю бег своих галерей.
Кажется, что это бегут азиатские улички, пересекаясь с готическими переулками.
Комплексом своим они высоко вынесены холмистой цепью вверх, но просторами своими глубоко въелись в тело холмов.
Как кольчуга, распялена по откосам немецких окопов тонкая проволока.
Как выгнутые ленты — рифленое железо полуциркульных сводов {318} подземных дорог…
Ржавые рельсы и вагонетки…
Бетонные блокгаузы закрыты скрипучим забралом ставень.
Окошечки заделаны голубоватым стеклом с проволочными прожилками.
Бросьте в него камнем. По стеклу звездой разбегутся трещины.
Но цепко держат стальные нервы осколки небьющегося стекла. И беспомощно отступит перед ними камень.
Словно белые кости, лежит в траве запас стандартных столбиков, отлитых из бетона.
Широкий, ржавый, колючий пояс в три слоя вьется вдоль зловещих бугров.
Дальний, внешний — еле подымается от земли.
Средний — на высоте груди целится в сердце.
И самый страшный — ближний.
Необъятными кольцами он вьет петли зубастой колючей проволоки. И нет ни исхода, ни выхода тому, кто, не споткнувшись о первый, прорвавши грудью второй, попал в объятия этого третьего, смертоносного пояса.
Ржавая змея кольцами звенит на ветру.
И кругом — ни души.
Хоть бы пролетела птица.
Хоть бы пробежала полевая мышь.
Никого!
Сквозь проволоку мы осторожно спускаемся через снижающиеся пояса.
Что белеет там, у подножия проволочной паутины?
Это — не столбики бетона.
Не метафоры.
Кости…
Везувий обрушил потоки лавы на Геркуланум и Помпею.
И в толщах лавы застыло все многообразие жизни, застигнутой врасплох.
Очищаясь слой за слоем от окаменевших потоков, открывается картина остановившейся жизни.
… Так и здесь, под открытым — слишком открытым — небом в этом поле под Двинском — застыла картина безумного наступления, движением руки истерического маньяка брошенного на верную смерть.
Три года здесь не ступала нога.
{319} Три года сюда не залетала птица.
Три года льют здесь ливни, наступают и проходят морозы.
Кости лежат.
«Их моют дожди…»[cccxlvi]
Они застилаются снегом.
Снова проступают весной.
И белятся, как холст, под лучами жгучего летнего солнца.
Сгнили кожа и ткани.
Сгнили тело и мышцы.
Исчезли глаза и волосы.
Оголились ребра.
Остались кости…
И необъятной фреской застывшего danse macabre лежат скелеты.
Уцелели бляхи поясов,
погоны,
индивидуальные пакеты розоватых бинтов
и жестяные иконки,
маленькие саперные лопаты
да кое-где козырьки фуражек…
Едешь по Долине Смерти в Калифорнии и видишь бесконечные фаланги костей павших коней, волов и буйволов.
Лежат они бесформенной грудой, лишь общим очертанием вторя путям, теряющимся среди трещин иссохшей земли.
Здесь зрелище иное.
Мягкая зеленая мурава покрывает землю.
Как на бархате, лежат застывшие кости, точно так, как в атаке полегли тела.
Каждый скелет — это индивидуальная драма внутри размаха общей трагедии.
Вот два, изогнувшись, стараются окопаться, около рук — лопатки.
Но они успели только врезаться в дерн, как легли наповал.
Даже видно, что один был ранен в живот.
Так скрючен его позвоночник.
Вот, широко раскинувши руки «андреевским крестом»[cccxlvii], лежит скелет на спине.
Вот — запутавшийся в проволоке.
А вот еще один — изогнувшийся боком. Он особенно жуткий.
У него нет головы.
А голова в пяти-шести саженях.
{320} Вот из заболоченной ямы торчит половина торса, а рядом…
ноги.
Сизый туман, как папиросный дым, акварельным размывом вьется между этими навек застывшими…
Мало кому приходилось увидеть такое поле сражения. Как заповедник, нетронутое.
Как кладбище — неприкосновенное.
Как память великой драмы — нетленное.
Но завтра в грохоте взрывов навеки исчезнут эти оплоты немецкой военщины… И еще страшнее обнажится то, что противостояло им.
Что это, наспех разрытые могилы? Нет, — наши окопы, засыпанные гнилым листом.
Так гибли под Двинском, под Мукденом, на подступах к Карсу и Эрзеруму обкрадываемые, предаваемые, обманываемые, беззаветно героические наши русские солдаты.
Так в обманно-нелепом наступлении легли они в семнадцатом году.
Но на поле смерти под Двинском я сам терплю поражение.
Запальники дают осечку?
Недостаточно сильны заряды пироксилина?
Или упорство бетонных блиндажей превосходит расчеты?
Ничего подобного!
Аккуратно взлетает земля.
Заботливо заваливает окопы, пулеметные гнезда и оставляет за собой нечленораздельную кашу из бетона, рельсов, сеток, проволоки.
И поражение мое совсем не на поле.
Оно — на листе бумаги, там, где я стараюсь разложить эти скелеты на бумаге в страшных и впечатляющих ракурсах описания.
Один из соблазнов писать эти записки — это минимум стилистической правки и переделок, которые я заставляю себя делать.
А строчки с костями, скелетами и ребрами я тасую и тасую, как карты, а они никак не ложатся пугающим или страшным узором.
Тасую, тасую…
Поле осталось неизгладимым в памяти именно своим застывшим ужасом.
И сколько ни тасуешь — не ложатся эти кости на бумагу ужасом.
Не выходит.
{321} Не получается…
Так же не выходит, когда, свезя грузовик реальных костей и черепов на берег Переславского озера, я часами перекладываю, перетаскиваю и разбрасываю их по изрытому зеленому склону.
«О поле, поле, кто тебя усеял…»[cccxlviii]
Задумав пролог к «Александру Невскому» как панораму полей, усеянных «мертвыми костями» тех, кто пал в борьбе с татарами за русскую землю, я не мог не вспомнить поля под Двинском.
Я выписал себе груду скелетов людей и лошадей и заботливо старался из их элементов разложить по траве горизонтальную фреску застывшего боя.
Я вспомнил скелет, раскинувший ноги и руки «андреевским крестом».
Другой я протыкал копьем, прошедшим рядом со щитом.
Один череп лежал в шлеме.
Другой торчал из-за воротника кольчуги.
Ни черта не получалось!
Это было отвратительно «позерски» на глаз и совершенно неубедительно с экрана.
Скелеты с экрана казались белыми обезьянами, пародирующими живых людей.
Я выбросил их в корзину.
Оставил только те, что неопределенно, углом торчат из травы.
И пожалел выбросить два начальных черепа.
И жалею, что пожалел.
Белизна их получилась не «обмытостью дождями», а подобием фарфора горшка.
(Покойный Алексей Толстой язвил, что это не черепа, а… страусовые яйца!)
Где же причина?
Доля неудачи есть, конечно, и в том, что эти аккуратно отделанные кости пришли из анатомического музея.
Но… на этих страницах кости какие угодно, а в пугающее сочетание они никак не ложатся!!
Влечение к костям и скелетам у меня с детства.
Влечение — род недуга.
<И из-за скелетов, например, я попал в Мексику.>
Какое-либо наше действие определяет всегда, конечно, пучок мотивов.
{322} Они не всегда так отчетливы для самого себя, как, скажем, дошедшие до нас записи Шопенгауэра его мотивов в пользу переезда в Манхейм сравнительно с пребыванием в Брауншвейге.
В пользу Манхейма — по пятибалльной системе!
В пользу Брауншвейга — по той же системе.
Вывод — все в пользу Манхейма,
и философ остается безвыездно в… Брауншвейге!
Но среди «пучка» мотивов есть всегда один, обычно самый дикий, непрактичный, нелогичный, часто нелепый и очень часто совершенно нерациональный, «тайный», который, однако, все и решает.

{323} [Встреча с Мексикой][cccxlix]
Я отчетливо помню себя в моей заваленной книгами комнате на Чистых прудах.
Потолок расписан черными и красными концентрическими кругами вокруг вынутого крюка для люстры.
Я называл их куполом — чернота углубляла потолок.
А иногда казалось, что цветные, черные и круглые кольца начинают вертеться и разворачивать комнату в стороны.
Помню в руках какой-то немецкий журнал.
В нем — поразившие меня кости и скелеты.
Скелет человека сидит верхом на скелете лошади.
На нем — широкое сомбреро. Поперек плеча пулеметная лента.
Другие два скелета — мужчина, судя по шляпе и приделанным…
усам, и женщина, судя по юбке и высокому гребню, стоят в характерной позе танца.
А вот фотография витрины шляпного магазина — из воротничков с галстуками торчат черепа.
На черепах аккуратные соломенные канотье, новые модели стетсонов с убийственно загнутыми полями, тонные черные и коричневые котелки.
Что это? Бред сумасшедших или модернизированная «Пляска смерти» Гольбейна?
Нет! Это фотографии «Дня мертвых» в Мексико-Сити.
Скелеты эти… детские игрушки!!
А витрина — подлинная витрина в том виде, как их убирают в этот день — 2 ноября.
Как заноза засело впечатление.
Как неизлечимая болезнь — неистовое желание увидеть это в действительности.
И не только это.
Но и всю страну, которая может развлекаться таким образом!
Мексику!
{324} А тут еще приезжает прообраз эренбурговского Хулио Хуренито[cccl] — Диего Ривера (хотя в самой книге он присутствует как друг и приятель Х. Х.).
От Диего я узнаю не только о «дне смерти», но и о прочей фантастике этой поразительной страны.
Моей самой первой работой на театре — моим дебютом — была тоже Мексика.
Мы инсценировали и ставили рассказ Джека Лондона.
Начинал я постановку художником, а затем перерос в сопостановщика. Подробно об этом в своем месте[cccli].
Здесь только любопытно вспомнить, до какой степени ничего общего с Мексикой не имели ни пролог, ни эпилог этой постановки (я имею в виду декорации).
Тот и другой (почему-то произносившиеся пролог и эпилог) — происходили в Мексике.
Основное действие — в Америке.
Дело спасалось, конечно, тем, что декорации были скорее даже супрематическими, чем кубистическими (был 1920 год), и в них уследить этнографическое несоответствие с действительностью было более чем затруднительно!
Так или иначе, сам жирный Диего, фотографии с его фресок и колоритные рассказы о Мексике еще больше распаляли охоту попасть туда и прощупать все это собственным глазом.
А потом через несколько лет мечта стала действительностью:
в результате самых неистовых стечении обстоятельств я попадаю в эту страну.
На большинство людей Мексика производит поразительное впечатление.
Я думаю, что это оттого, что она всеми своими частями кажется только что вышедшей из вод двух омывающих ее океанов, — кажется, что вся она в «становлении».
В том особом динамическом состоянии, которое мы противопоставляем статическому понятию «бытие».
Мы знаем об этом больше по книгам.
И не очень подвижному воображению это сложное представление о динамике становления почти ничего не говорит.
Мексика удивительна тем, что там на ощупь переживаешь то, что знаешь по книгам и философским концепциям, противостоящим метафизике.
Подозреваешь, что мир в колыбельном возрасте был полон именно такой — царственно-равнодушной — лени и одновременно {325} с этим — такой же созидательной потенции, как эти плато и лагуны, пустыни и заросли, пирамиды, от которых ждешь, что они вот‑вот разорвутся вулканами; пальмы, которые врастают в голубой небесный купол, черепахи, выплывающие не из лона заводей и заливов, а из глубин океана, соприкасающихся с центром Земли.
Люди, побывавшие в Мексике, встречаются как братья.
Ибо люди, побывавшие в Мексике, — болеют «мексиканской болезнью».
Что-то от эдемских садов стоит пред закрытыми глазами тех, кто смотрел когда-либо на мексиканские просторы. И упорно думаешь, что Эдем был вовсе не где-то между Тигром и Евфратом, а, конечно, где-то здесь, между Мексиканским заливом и Техуантепеком!
Этому не может помешать ни грязь котлов с пищей, которые облизывают шелудивые псы, вьющиеся вокруг, ни поголовное взяточничество, [ни] изводящая безответственность неповоротливой лени, ни вопиющая социальная несправедливость, ни разгул полицейского произвола, ни вековая отсталость рядом с самыми передовыми формами социальной эксплуатации.
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 392; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!