
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Истинные пути изобретания 2 страница
Но об этой своей теме творчества — в другом месте.
Пределы настоящей статьи определены другой темой, темой о том, как автор пришел к режиссуре.
Я уже расширил эту тему, попытавшись попутно рассказать, как автор пришел еще и к некоторым особенностям в своей режиссуре.
Что же автор наделал, уже будучи режиссером, найдет свое изложение в другом соответственном и подобающем месте.

{26} История крупного плана[xviii]
Ветка сирени.
Белой,
махровой.
В сочной зелени листьев.
Погруженная в ослепительный луч солнца.
Она вливается в комнату через окно.
Качается над подоконником.
И входит первым воспоминанием в круг моих детских впечатлений.
Крупный план!
Крупный план белой сирени покачивался первым детским впечатлением над моей колыбелью.
Впрочем, это уже не колыбель. Это маленькая белая кроватка с четырьмя никелированными шариками на столбиках и белой вязаной сеткой между ними, чтобы я не выпал.
Из колыбельного возраста я уже вышел.
Мне уже целых три или четыре года!
Мы с родителями живем на даче,
на Рижском взморье,
в нынешнем Майори, которое тогда называлось Майоренгофом.
Ветка белой сирени в косом срезе солнечного луча заглядывает в окно.
Качается надо мной.
Первое мое сознательное впечатление — крупный план.
* * *
Так под веткой сирени просыпалось сознание.
Потом много, много лет подряд под такую же ветку оно уходило в дремоту.
{27} Только ветка была уже не живая, а писаная, наполовину рисованная, наполовину вышитая шелком и золотой нитью.
И была она на японской трехстворчатой ширме.
Глядя на эту ветку, я много, много лет подряд засыпал.
Когда ее начали ставить около изголовья моей кровати, я не помню.
Но кажется, что она там стояла всегда.
Ветка была пышная и изогнутая.
На ней — птички.
И очень далеко за ней — сквозь нее — были нарисованы традиционные детали японского ландшафта.
Маленькие хижины.
Заросли камыша.
Мостики через ручьи.
Остроносые лодочки, нарисованные в два штриха.
Ветка была уже не только крупным планом.
Ветка была типичным для японцев — первым планом, сквозь который рисовалась даль.
Так до знакомства с Хокусаи, до увлечения Эдгаром Дега приобщался я к прелести первопланной композиции.
В ней мелкая деталь на первом плане взята в таком масштабе, что доминирует над всей глубиной.
Потом как-то ширму пробили в двух местах стулом.
Помню ее с двумя пробоинами.
Потом ее не стало.
Я думаю, что эти две ветки связали с одно общее живое впечатление два понятия: понятие о крупном плане и понятие о первопланной композиции как органически и стадиально связанных между собой.
И когда я много лет спустя пустился в поиски исторических предшественников крупного плана в кино[xix], я невольно стал их искать не в изолированном портрете или натюрморте, а в увлекательной истории того, как из общего организма картины начинает выдвигаться на первый план отдельный ее элемент. Как из общего плана пейзажа, где иногда невозможно обнаружить падающего Икара или Дафниса и Хлою[xx], фигуры начинают сперва в рост приближаться к плоскости, а затем постепенно становятся так близко, что срезаются краем картины, как в «Эсполио» Эль Греко и затем — прыжком через три столетия — у французских импрессионистов под сильным впечатлением японского эстампа.
{28} А традицию первопланной композиции подхватили для меня два Эдгара.
Эдгар Дега и Эдгар По.
Первым Эдгаром был Эдгар Аллан По.
Живое впечатление от писаной японской ветки, вероятно, определило остроту впечатления, которое на меня произвел рассказ о том, как По глядит в окно и внезапно видит гигантское чудовище, ползущее по вершинам горного хребта вдали[xxi].
Затем выясняется, что это вовсе не допотопных размеров чудище, а скромная медведка, проползающая по стеклу.
Оптическое совмещение этого крупного первого плана с дальней горной цепью и создает пугающий эффект, так великолепно описанный Эдгаром По.
Интересно отметить, что вымысел По не мог строиться на непосредственном впечатлении: человеческий глаз не может одновременно «взять на фокус» столь сильно выдвинутый вперед первый план и отчетливую обрисовку горного хребта вдали.
Это может сделать только кинообъектив, и то только один из них — «28», который к тому же обладает чудесным качеством преувеличенно искажать первый план, искусственно преувеличивая его размер и форму.
Некоторые предположения о том, как могло возникнуть у Эдгара По подобное зрительное представление, я решаюсь изложить в маленькой работе, касающейся кинематографических элементов в творчестве Эль Греко[xxii].
Но я думаю, что скрещение ветки белой сирени с пластическим описанием из страшного рассказа Эдгара По, вероятно, как-то определило собой наиболее эффектные мои, особенно резко выраженные первопланные композиции.
Это черепа и монахи, маски и карусели «Дня мертвых» в мексиканской картине.
Пятно белой ветки сирени становится белым черепом на первом плане.
А жуть рассказа Эдгара По становится группой монахов в черных рясах в глубине.
И все вместе приходит католическим аскетизмом иезуитов, налагающих железную пяту костра и крови на чувственное великолепие тропической красавицы Мексики.
Карусели «Дня смерти» повторяют эту же самую трагическую тему иронически.
{29} Здесь выброшены на первый план почти до осязаемости выдвинутые опять-таки белые черепа.
Но черепа картонные — маски черепов.
А за ними в полный размер крутятся карусели и вертикальные колеса смеха, мелькая сквозь пустые глазницы масок, заставляя их подмигивать, как бы говоря о том, что смерть — не более чем пустой картонаж, сквозь который все равно и всегда будет неустанно пробиваться вихрь жизни.
Другой хороший образец — это совмещение профиля девушки племени майя и всей пирамиды из Чичен-Итцы в одном и том же кадре. Вообще же тип этой композиции особенно обстоятельно разрабатывался мною еще в «Старом и новом».
Несравненные композиции второго Эдгара — Эдгара Дега — и иногда еще более острые построения Тулуз-Лотрека снова возвращают нас в лоно чисто пластических произведений.
Но само сплетение этих описательных и непосредственно зрительных впечатлений имело для меня совсем особенное значение.
Здесь для меня, вероятно, впервые прощупывалось связующее звено между живописью и литературой, увиденными одинаково пластически.
Тут были первые ростки того, чтобы зрительно, пластически и монтажно прочитывать Пушкина, а когда понадобился перевод на английский язык, и Мильтона[xxiii].
В общении с Пушкиным, а в дальнейшем и с Гоголем, ощущение этой связи углублялось.
Если у Эдгара По мы видели, по существу, зрительную картину, подробно описанную именно как зрительную картину и даже как оптический феномен, то у Пушкина мы встречаемся с описанием самого события или явления, однако сделанным с такой абсолютной строгостью и точностью, что возможно почти целиком воссоздать зрительный образ, конкретно проносившийся перед глазами нашего поэта.
Именно «проносившийся», что доступно динамике литературного описания там, где пасует неизбежно неподвижный холст картины.
И вот почему движущаяся картина пушкинских построений могла так остро начать ощущаться только с приходом кинематографа.
Тынянов писал о конкретности пушкинской лирики. О том, что лирические стихи Пушкина — не игра условно лирическими {30} формулами, но всегда запись подлинных лирических «состояний души» и эмоциональных переживаний, всегда имеющих точный адрес и совершенно реальный источник[xxiv].
Разбор пушкинских поэм (и прозы) доказывает совершенно такую же точность описания совершенно реальных зрительных образов, которые можно восстановить, воссоздать по его изложениям.
Перекладывать пушкинское изложение в систему монтажной смены кадров — абсолютное наслаждение, потому что шаг за шагом видишь, как видел и последовательно показывал поэт то или иное событие.
< «Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
“За дело, с Богом!” — Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр».
Постепенность «подачи» Петра замечательна. Сперва — это голос. Затем — это толпа, среди которой уже Петр, но Петр еще незримый… И только потом раскрывается Петр как таковой, или, вернее, «весь как Божия гроза»[xxv].>
Не менее удивителен и пушкинский «микромонтаж», то есть сочетание отдельных элементов внутри единой рамки кадра.
Здесь в расставе слов внутри фразы повторяется то же самое.
И если взять за правило, что последовательность размещения слов определяет их положение от переднего плана «кадра» в глубину (что достаточно естественно), то почти каждая фраза Пушкина совпадает с совершенно точно очерченной схемой пластической композиции.
Я говорю — схемой композиции, ибо расстав слов определяет собой главное и решающее в композиции: осмысленное соотношение и соразмещение элементов сюжета и других валеров внутри картинок.
Этот «решающий костяк» может быть облачен в любые частные живописные разрешения.
И это дает возможность, сохраняя строгость авторского замысла, по-своему его интерпретировать каждому, кто взялся бы за пластическое воссоздание литературного описания.
Здесь и предпосылки, и предел творческой интерпретации творений автора, как в любом аспекте режиссуры.
{31} * * *
Хорошим примером того, как развивается авторский композиционный замысел и ход и как можно, проморгав его, утерять этот строй, дает сопоставление подлинного отрывка из Гоголя с трафаретной киноинтерпретацией его. Пример взят из книги Кулешова (начало атаки из «Тараса Бульбы», появление Андрия)[xxvi]:
< «Записывая кадры к этому куску, мы должны подумать о том, как будем показывать Андрия, несущегося на коне. Если Андрий проскачет на коне на общем плане, зритель не увидит достаточно подробно лица Андрия, выражения его глаз, черных кудрей, вылетающих из-под шлема, и т. д. Снимая Андрия средним и крупными планами, мы также не дадим возможности видеть Андрия нужное количество времени в кадре — конь и всадник мгновенно промелькнут на экране.
Поэтому кадры “несущегося на коне Андрия” необходимо снимать “с движения” — аппаратом, двигающимся параллельно скачущему всаднику (съемка с тележки, автомобиля и т. п.).
Запишем кадры к куску:
4 м. 3. Ср. Впереди полка несется Андрий. Андрий всех бойчее и всех красивее. Он весь в золоте. (Снять с движения.)
Звук — музыка атаки. Блеск золота.
4 м. 4. Кр. поясной. Андрий. Летят черные волосы из-под его шлема. Вьется на руке Андрия дорогой шарф. (Снять с движения.)
Звук — музыка атаки. Блеск золота.
6 м. 5. Ср. дальний. Крепостная стена. Выходит полячка.
Звук — музыка атаки. Тема полячки.
3 м. 6. Кр. поясной. Полячка на стене.
Звук — музыка атаки. Тема полячки.
“Андрий всех бойчее, всех красивее”.
“Дорогой шарф — подарок полячки”.
Андрий увидел полячку. Покажем красоту Андрия, покажем шарф полячки.
Повторим еще раз: “… так и летели черные волосы из-под медной его шапки…”
“… Вился завязанный на руке дорогой шарф…”
Покажем полячку, смотрящую на Андрия.
Запишем кадры:
2 м. 7. Кр. Летят черные кудри из-под шлема Андрия. (Снять с {32} движения.) Звук — музыка атаки. Тема полячки.
2 м. 8. Кр. Вьется шарф на руке Андрия. (Снять с движения.)
Звук — музыка атаки. Тема полячки.
4 м. 9. Кр. поясной. Смотрит полячка.
Звук — музыка атаки. Тема полячки».
(Л. В. Кулешов. «Основы кинорежиссуры». М., Госкиноиздат, 1941, с. 66 – 67.)
Читаешь разбор и обоснования Л. В. Кулешова и не можешь не согласиться с его доводами.
Все — логически верно и обстоятельно.
И только где-то свербит ощущение того, что неужели Гоголь так тривиально кинематографичен.
Вот эти девять кадров.
Берешь соответствующее место из описания и видишь: уже с самых первых строк — резкое расхождение с Гоголем.
И не поверхностное, а принципиальное.
Где Л. Кулешов обстоятельно показывает с самого начала сцены Андрия, как Андрия в бою (съемка в движении — кадр 3, кр. поясной план — кадр 4 и т. д. специально для этого предназначены), там у Гоголя сделана совсем иная подача:
«… Отворились ворота, и вылетел оттуда гусарский полк, краса всех конных полков. Под всеми всадниками были все, как один, буры аргамаки. Впереди перед другими понесся витязь всех бойчее, всех красивее. Так и летели черные волосы из-под медной его шапки; вился завязанный на руке дорогой шарф, шитый руками первой красавицы…» (с. 142 тома II Полного собр. соч. Н. В. Гоголя, изд. Академии Наук СССР, 1937 г.).
Где здесь сказано, что это Андрий? Где показано, что это Андрий?
И случайно ли не назван и не показан Андрий в начале?
Нет конечно. Следующая же фраза раскрывает нам намерение автора:
«… Так и оторопел Тарас, когда увидел, что это был Андрий…»
Раскрытие того, что этот удивительный рыцарь — именно Андрий, по замыслу автора, должно произойти через глаза Тараса.
Вместе с Тарасом нужно, чтобы «оторопел» и зритель. По замыслу автора, это — сперва некий сверкающий сказочный воин, внезапно оказывающийся Андрием. У Гоголя и рубить Андрий начинает не сразу.
Много строк описания — сравнения с молодым борзым псом — отдано сперва {33} на лихой и сверкающий его скок, прежде чем он с жадностью врежется в рубку.
Каково впечатление от Андрия в польских латах, мы знаем по нескольким страницам выше (с. 111) — из описания, которое дает о нем Тарасу Янкель, видевший его в городе:
«… Теперь он такой важный рыцарь. Далибуг, я не узнал! И наплечники в золоте, и нарукавники в золоте, и зерцало в золоте, и шапка в золоте, и по поясу золото, и везде золото, и все золото. Так, как солнце взглянет весною, когда в огороде всякая пташка пищит и поет, и травка пахнет, так и он весь сияет в золоте…»
Вот каково первое впечатление от Андрия!
Таким, пока еще неизвестным рыцарем, как солнце сияющим золотом, следовало бы дать первое появление Андрия до того, как его узнает Тарас.
Сделать это кадрами легче легкого. Даже не прибегая к забралу!
(И кстати сказать, какой великолепный контраст этого появления солнечного рыцаря с концом его в словах Тараса двумя страницами выше: «Пропал, пропал бесславно, как подлая собака!»)
Интересно, что так же не «персонифицировано» здесь «обозначена» и полячка — «шарф, шитый руками первой красавицы…»!
Этот тип подачи — не сразу «в открытую» — чрезвычайно любит и Пушкин.
Так сделан выход Петра из шатра в «Полтаве» или выход Истоминой в «Евгении Онегине». Здесь же он связан еще и с тем, чтобы зритель узнал Андрия вместе с Тарасом. (Это тоже глубоко связано с тем обстоятельством, что зритель должен эмоционально быть «с Тарасом» — носителем патриотической идеи — во всем, до конца и вместе!)
Совершенно то же самое мы можем обнаружить, прослеживая монтажную группу за монтажной группой. Кстати же, «от немого кино» здесь действительно — врезка панночки на стене.
Гоголевское — «кудри» etc. «видел перед собою» — она все же не решает.
И здесь, конечно, надо было выработать музыкальный лейтмотив, резко вплетая эту тему пьянящей и дурманящей страсти, которою одержим Андрий и в бою, и особенно в смерти, где {34} эта тема в музыке, собираясь, уже шла бы вразрез укрупняющимся надписям и отчетливо проступала бы, сливалась с произнесением ее имени Андрием перед смертью.
Это дало бы пример разверстки темы не только в пластическую, но и в звуковую, и, наконец, в область взаимосвязи звукозрительной.>
* * *
Конечно, и в этом направлении самые любопытные образцы дают китайцы, у которых единство живописного и литературного письма одинаково растет из первичного зрительного восприятия и его специфических особенностей, тем самым определяя неожиданность особенностей и форм как того, так и другого письма.
Я думаю, что как пушкинский словорасстав оказался для меня дальнейшим стимулом от первых впечатлений, так сам Пушкин оказался ступенью к наиболее меня увлекающей теме звукозрительного контрапункта.
Дело в том, что в характер создания зрительного эквивалента к словорасставу Пушкина очень часто вплетается интонационный и мелодический ход самой фразы.
Мелодический график настолько отчетлив и настолько совпадает со словесно обрисованным предметом сцены, что иногда он кажется контуром действующих деталей или мизансценой поступков или неподвижных соразмещений всего того, что охвачено полем зрения.
И отсюда уже шаг к тому случаю, когда конкретный предмет исчезает, оставляя за собой лишь контур и ткань интонационного хода, характерного для него.
Мелодика стиха перескользнула в музыку.
Рождается проблема звукозрительного сочетания из возможностей звукозрительного соответствия и единства.
<Этому посвящена главная часть моей пока единственной книги «The Film Sense»[xxvii]. И незачем здесь повторяться.>
Здесь мне интересны прежде всего пути и перепутья, которыми я шел и подходил к центральным проблемам, волновавшим меня в разных разделах моей творческой практики.
Сладкий яд отравы звукозрительного монтажа пришел позже.
В немом кино дело касалось монтажа и роли крупного плана.
{35} Хотя интересно, что еще в немом кинематографе я часто искал передачи через пластическое построение чисто звуковых эффектов.
Я вспоминаю, как в двадцать седьмом году, снимая Зимний дворец в октябрьскую ночь (для фильма «Октябрь»), я добивался того, чтобы пластически создать впечатления раската выстрела с «Авроры» по анфиладам дворца. Эхо прокатывается по залам и докатывается до комнаты в белых чехлах, где закутанные в шубы министры Временного правительства ждут рокового для них мгновения — установления советской власти.
Система «ирисовых» диафрагм в правильно уловленном ритме открываний и закрываний видов на пустые залы старалась уловить этот дышащий ритм эха, пробегающего по залам.
Более удачно получился и хорошо запомнился зрителям перезвон дворцовых хрустальных люстр в ответ на пулеметную дробь на площади.
Здесь кроме зрительного и двигательного эквивалента качающихся хрустальных подвесок была еще ассоциация чисто предметная. Методологически интереснее была, конечно, попытка уловить графический эквивалент эха!
* * *
Крупный план в том виде, как им орудовало немое кино, крупный план, уже отделившийся от общего фона, переставший быть связанным с фоном, но уже как целиком в себе абстрагированное pars pro toto — тоже связан у меня с живым впечатлением за несколько лет до того, как я вообще начал работать даже в театре!
Крупный план однозначного порядка как элемент возможных чисто темповых сочетаний связан у меня с реальной сарабандой пляски носов и глаз, ушей и рук, высоко подколотых английскими булавками поясов, серег и причесок с вплетенными цветами и ленточками.
Дневное зрение глубоко отлично от ночного.
Дневное — в смысле бодрствования.
Ночное — в смысле видения во сне.
В нормальном дневном зрении сплетение деталей и общего вида настолько гармонично, что нужна либо искусно выработанная специальная сноровка — глаз Следопыта[xxviii] или его внучатого {36} племянника Шерлока Холмса, либо неожиданно острое раздражение внимания, для того чтобы из этого гармоничного целого внезапно выхватывать островки крупных планов.
Нужна особая аналитическая воспитанность глаза, чтобы уметь выхватывать деталь.
Нужна особая синтезирующая способность мышления, чтобы из этих данных анализирующего зрения суметь разглядеть решающую деталь, характерную деталь, деталь, способную в осколке целого воссоздавать представление о целом.
Интересно, что в состоянии сна целое и часть также гармонично сплетены, но как-то так, что и то [и] другое равно заметны.
Трудно найти лучшее описание этого, чем у… Достоевского в разговоре Ивана Карамазова с чертом, где так характерно обозначены рядом «высшие проявления» и «последняя пуговица на манишке» (да еще к тому же упомянут Лев Толстой — равно блестящий в необъятных батальных полотнах и «неожиданных подробностях» завитков волос на шее Анны Карениной) и сказано, что подобные вещи во сне видят даже и «совсем заурядные люди», что есть такие, для которых в бодрствующем состоянии «целое», конечно, некая вязкая комплексная и недифференцированная картина.
Но наиболее интересны промежуточные состояния: ни сон, ни явь.
Перескок из одного состояния в другое как бы расщепляет как ту, так и другую гармонию: фрагменты восприятия или впечатлений от воспринятого встряхиваются, как игральные кости, и перетасовываются, как колода карт.
Именно на рубеже обоих состояний я и узрел упомянутую выше сарабанду пляски крупным планом.
Это не было пляской на Лысой горе.
Ни даже вовсе на горе.
А на вытоптанной площадке перед несколькими мощными избами где-то в бывшем Холмском уезде бывшей Псковской губернии.
Это было в другое время.
В эпоху гражданской войны, совершенно неожиданным образом забросившей меня техником в военное строительство и почему-то в город Холм Псковской губернии, хотя город Холм отстоит от одной железной дороги на девяносто пять, а от другой на семьдесят километров…
Мы строили там укрепления: окопы, блиндажи, блокгаузы.
{37} Хотя вовсе и совершенно непонятно, против кого это делалось…
В дальнейшем выяснилось, что в Холм забросил нас небескорыстный каприз начальника военного строительства, в дальнейшем при отступлении под Двинском или Полоцком очутившегося по ту сторону оставленных позиций: где-то в районе Холма располагались бывшие имения его супруга. Начальник сей был примечателен безумною ездой на мотоцикле, блестящими познаниями в области военно-инженерного искусства и тем, пожалуй, что, приходя к нему утром с докладом в кабинет, можно было застать его делающим стойку на ручках собственного начальнического кресла.
А в самодеятельных спектаклях военного строительства во время расположения в окрестностях Великих Лук сей инженер блистательно играл безмолвного слугу с салфеткой в игравшемся по памяти скетче «Двойник» из репертуара довоенного театра миниатюр (кажется, Литейного).
(То было одной из самых первых проб пера на почве любительской режиссуры…) […][xxix]
И среди многообразия наипестрейших впечатлений этой подвижной эпохи гнездится и то маленькое мимолетное впечатление, ничего общего с масштабом эпохи и событий не имеющее и просто случайно произошедшее где-то далеко в стороне от генерального хода исторических событий тех лет. Да оно даже и не событие.
И нуждалось всего лишь — в очень узенькой скамейке.
Деревенской гармошке.
Паре промокших ног, вынудивших, «чтоб согреться», хлебнуть какого-то деревенского самогонно-спиртового изделия.
Переезде через реку туда, где пляшут дивчины.
До этого — плотной закуске в доме еще не раскулаченной семьи, готовой на любые изъявления дружбы, лишь бы сохранили ей единственного сына десятником на участке военного строительства, где наравне с прочим начальством начальником является и техник из студентов.
Тяжеловатый сон после непривычно обильной пищи, кажется, впервые в крестьянском доме «принятой» из общей круглой чаши.
Мечтательный закат.
И вредная закатная дрема на очень узкой скамейке вдоль завалинки избы.
{38} Пока пляшут девчата.
Пока разоряется гармонь.
И прочие участники нашего «похода» разоряются кренделями ног по вытоптанной площадке перед просторной избою над илистой рекой, попахивающей тинистой водой, над которой качается слегка протекающая лодка (отсюда — промокшие ноги), постукивая цепочкой и уключинами…
Я в жизни дремал очень часто.
И в очень разной обстановке.
Умирая от жары, в плоскодонной лодке среди острохвостых скатов в лагунах птичьих заповедников Кампече.
Среди врастающих в узкие водяные рукава с верха деревьев (!) корневищ, жадно всасывающих влагу из этих прожилок, что щупальцами запускает Тихий океан в непроходимые леса пальмовых массивов Оахаки. Вдали поблескивает глаз крокодила, лежащего верхней челюстью на глади вод.
Дремал, укачиваемый самолетом, несясь из Вера-Круса в Прогресо над голубизною вод Мексиканского залива. Розовыми стрелками между нами и изумрудной поверхностью залива проскальзывали плавным лётом фламинго.
Томила дремота среди выжженных солнцем кустарников окрестностей Итуамала, кустарников, растущих из расселин между бесчисленными километрами камней с причудливой резьбой, некогда гордыми городами древних тольтеков. Как бы опрокинутых и рассыпанных рукою гневного великана.
Меня клонило ко сну и за клетчатыми красными скатертями негритянских кабаков предместий Чикаго.
Слипались глаза и на «бал-мюзеттах» парижских танцулек — «Лё Жава», «Буль Бланш», «О Труа Колонн»…[3] — где так неподражаемо вальсируют молодые рабочие, только что вышедшие из возраста юных Гаврошей, прижимая подруг и вертясь, не отрываясь от пола.
Но почему-то именно только тогда, давно, после обильной пищи семейства Пудяковых, в прохладно-сыроватом закате над безымянной речкой, я ощутимо испытал это странное появление перед глазами в причудливой фарандоле — то гигантского одиноко существующего носа, то живущего самостоятельной жизнью картуза, то целой гирлянды пляшущих фигур, то чрезмерно {39} преувеличенной пары усов, то одних крестиков вышивки на вороте чьей-то русской расшитой рубахи, то дальнего вида деревни, заглатываемой темнотой, то снова сверхкрупной голубой кисти шелкового шнура вокруг чьей-то талии, то серьги, запутанной в локон, то румяной щеки…
Интересно, что пяток с лишним лет спустя, [когда я] впервые взялся за крестьянско-колхозную тему, это живое впечатление не было мною утеряно. Ухо и шейная складка затылка кулака — размером во весь экран, носище другого — размером в избу, ручища, беспомощно-сонно повисшая над жбаном квасу, кузнечик, по масштабу равный косилке, — беспрестанно вплетались в сарабанду пейзажей и жанровых деревенских картин фильма «Старое и новое» […]
Последнее — и, пожалуй, самое узко-пластически к тому же и чисто орнаментное — зрительное впечатление я испытал в условиях разреженно-горного воздуха Алма-Аты, когда перед переутомленными глазами (или в мозгу?) внезапно разорвалась целостность зрительного поля, часть которого (нижняя слева) «пошла» яркими зигзагами — веером из резко-белых, темно-синих и густо-коричневых полос.
По цветовой гамме и рисунку совершенно в стиле росписей перуанской керамики, так поражающей своим рисунком именно потому, что в степени ее графической и цветовой застилизованности совершенно невозможно ухватить источники внешних впечатлений, их породивших…
Пусть исходно зрительная, пусть производственно отправная (законы плетения, орнаментально перенесенные на округлую форму сосудов) — все равно вне помноженности на зрительные «сдвиги» в видениях сумеречных состояний никогда не могла бы осуществиться подобная причудливость орнаментальных форм.
Здесь — на низшей ступени — как везде на всевозрастающих стадиях культурного повышения — всюду и всегда мы находим это сплетенное соединение двух форм видения и восприятия — отражения действительности, преломленной через сознание, и отражения ее же через призму чувственного мышления.
На низших ступенях развития [это проявляется] примитивно и непосредственно — в самом изображении и ранних стилизационных попытках оформления изображенного; на более высоких — более изысканно, вплетая ту же органическую двуединость {40} восприятия во все усложняющиеся проблемы формы, вплоть до той стадии, когда отдельные случайные появления формальных разрешений и «открытий» синтезируются в индивидуальные манеры стиля и даже раскрываются как слагающие элементы учения о методе искусства и [элементы] самого метода искусств.
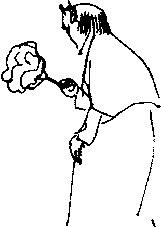
{41} Вот и главное[xxx]
Есть чудные русские выражения:
«Хорошо, кому не для себя»,
«Как сказать, чего не знаешь»,
«Вот и главное».
Самое хорошее из них,
самое удобное, конечно, «вот и главное».
Оно пригодно для всех случаев жизни.
Для тех случаев жизни, когда надо поддержать разговор, ничего при этом не говоря.
Такого же типа знаменитый отзыв Авраама Линкольна на одной книге:
«Для тех, кто любит такие книги, эта книга окажется такою, какие они любят».
Разговор на «вот и главное» строится совершенно так же.
Он очень удобен.
Особенно удобен в период гражданской войны, откуда я занес его к себе в жизнь, наравне с умением быстро заматывать обмотки, надевать портянки и [с] полным пренебрежением к примитивному даже комфорту.
«Вот советская власть, — говорит, хитро щурясь, рыжий мужичишка, — а соли-то нема? А?» «Вот и главное», — деловито произносишь в ответ.
«Говорят, белые копошатся на юге», — говорит другой с наивным видом, а сам краем глаза следит за тобой.
«Вот и главное», — произносишь со вздохом.
«Плохо вы жизнь нашу знаете, что на окопы ваши нас отрываете, когда косить надобно».
«Вот и главное», — говоришь сокрушенно.
|
|
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 387; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!