
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Истинные пути изобретания 3 страница
|
|
|
|
Чем более скользкое замечание, чем более провокационный вопрос, тем более сокрушенное, сочувственное или деловитое «вот и главное» в ответ.
{42} Испробуйте сами, и вы, конечно, согласитесь со мною.
«Вот и главное» заходит в мой обиход в городе Холме.
Город Холм прорезает широкая река. Ловать. Вдоль реки Ловать строятся позиции, роются окопы. Здесь проходит глубокий тыл.
Такой глубокий, что строить здесь укрепления надо по гораздо более глубоким мотивам, нежели стратегическим.
Как всякая добрая русская река, Ловать имеет два берега.
Один — высокий, другой — низкий.
Учебники географии ставят это явление природы в связь с вращением земли.
Вода, дескать, отстает и не может угнаться за опережающим ее высоким берегом.
Совсем в стиле братца Месяца, идущего навестить сестру свою Красное Солнышко.
Низкий берег — след реки, неустанно спешащей за высоким берегом.
Это, видимо, типично русская речная черта.
На берегах Колорадо я этого не замечал.
Впрочем, там реки так торопятся просверлить свое дно в глубину между отвесными скалами, что им совершенно некогда заботиться о разнице высот обоих берегов.
В Большом Каньоне оба берега необъятно высоки, если считать из глубины проевшейся ущельем реки, и совершенно плоски, если считаться с общей поверхностью пустыни, над которой они не поднимаются ни на фут.
На высокий берег реки Ловать ведет вверх бесконечно длинная крутая деревянная лестница.
Лестница поднимается вверх зигзагом с перилами.
По лестнице девушки волокут вверх полные ведра — по два на коромысле.
Встреча с ведрами здесь вряд ли служит приметой полноты полноценной жизни. Слишком часто встречаются здесь полные ведра.
Парням — развлеченье.
Девушке дают дойти до верхней ступеньки.
Затем выворачивают ведра…
Непременно стараясь при этом еще и облить визжащую девицу.
На высоком берегу раскинулось жилье Шеляпиных.
Шеляпиных много, и раскинуто их жилье вдоль всего высокого берега.
{43} Шеляпины — это местные богачи.
Мукомолы и лабазники.
Впрочем, есть Шеляпины самые разнообразные.
Городские и деревенские.
Бедные и богатые.
Столбовые и побочные.
Владельцы комфортабельных каменных домов и хозяева деревянных изб из окрестных деревень, занесенных на городскую окраину.
Через реку живут Красильниковы.
Этих мало.
Одна семья на одном пивоваренном заводе.
Он же производит и квас.
Глава фирмы — молодой Красильников — типично то, во что вырастают мальчики, в детстве считающиеся «скверными».
К двадцати годам он успел «взять от жизни все».
Даже попытку в детстве быть изнасилованным местным предводителем дворянства.
Он рассказывает об этом так же горделиво, как и о том, что, пользуясь инфляцией, сумел очистить от долгов родительское предприятие.
Он мог и не стараться поддерживать честь фирмы обесцененными бумажками.
Его заводик еще не национализирован.
Но будет, конечно.
Может быть, это задерживает тот факт, что у нас в военном строительстве работает военный инженер Эглит.
Эглит — упитанный латыш с розово-серым налетом на коже.
Бритоголовый, сероглазый, в мягкой коричневой кожаной куртке с бархатным воротником.
Эглит женат на сестре Красильникова.
У Эглитов — дочь.
Зовут ее «доча».
С «дочиной» мамой живет мой прораб — Саша Строев.
От него я узнал выражение «Вот и главное».
Еще имеется дедушка Красильников.
Впрочем, его не очень видно.
Он выжил из ума.
И целыми днями пропадает в сером надворном сортире.
Там он бесцельно растрачивает остатки мужеской силы, глядя в щелку на играющих на солнце девочек.
{44} Несколько раз в день Красильников или Красильникова бьют его по рукам крапивой.
Крапива помогает плохо.
Вероятно, даже напротив: поощряет возбуждение.
«Не правда ли, это читается как дислокация для возможного рассказа или романа?»
Река.
На разных берегах Красильниковы и Шеляпины.
В Холм вступает революция.
Въезжает военное строительство.
У Строева служит Эглит.
Строев спит с женой Эглита.
Эглит об этом знает.
Однако Саша Строев — это сейчас неприкосновенность пивного завода. Завод производит еще и квас.
Парни выливают ведра воды на девок.
А дедушка Красильников с белой бородой безработного летом деда Мороза смотрит в щелку на маленьких девочек.
«Край чудесный, край прелестный, чисто русский край», — как напевает военный инженер Пейч, закинувший участок военного строительства в эту глушь.
Однако романов и рассказов я не пишу.
Для чего же все это описано?
Для чего?
«Вот и главное»…
В Холме я читаю Отто Вейнингера.
Я уже основательно знаком с Фрейдом.
Поэтому «Пол и характер» не производят того впечатления, которое могли бы[xxxi].
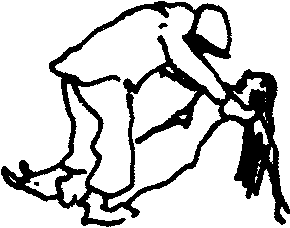
{45} [Раздвоение Единого][xxxii]

Уже не помню, когда и где я вычитал забавную мысль о том, что созидание (собственно творчество) есть прежде всего разделение. Отделение.
Это занятно иллюстрировалось активностью Господа Бога в течение первой седмицы его беспокойного бытия, когда он из хаоса лепил Вселенную.
Действительно, от света он отделяет тьму.
От тверди — океан.
И, наконец, от Адама отделяет Еву (из Адама выделяет Еву).
Хаос начинает приобретать некоторый пристойный вид.
Мало того — в него, благодаря этому, вселяется еще и некая динамическая потребность к новому воссоединению, новому слиянию того, что вышнею волею было разъято и разделено надвое.
Наиболее полно осуществить эту тенденцию удается Адаму и Еве.
С наиболее последовательно ощутимыми результатами в виде Каина, Авеля и Сифа, которые, за исключением пострадавшего в нежном возрасте Авеля, восторженно несут опыт родителей в практику потомков.
По мере сил и возможностей пытаясь слиться в единстве, проникают друг в друга и другие разъятые противоположности, в процессе этого творя многообразие явлений природы и проявлений ее сил.
Древний Иегова, который до подобного рода деятельности носится над первичным Хаосом, не более чем персонифицированный деятельный агент того, что само происходит с еще более на восток удаленным таинственным Дао, которое, согласно китайским поверьям, само раздвоилось на противоположные начала, так же неизменно стремящиеся друг к другу и в этом стремлении порождающие все явления, процессы и предметы природы.
{46} И есть даже большие подозрения по поводу того, что именно из среды китайских поверий ведут историю своего происхождения и легенда об Адаме и Еве, и в равной степени пленительные сказания Платона о сросшихся спинами живых существах, в дальнейшем отделенных друг от друга и обреченных искать подходящую половинку с тем, чтобы завершить круг земной своей юдоли в образе, так колоритно обозначенном Рабле под названием зверюги «о двух спинах» («la bête à deux dos»)…
О равной значительности и необходимости «раздвоя» не менее, чем единения, в этом занятном процессе можно найти прелестное доказательство от обратного.
Ужас неразделенности или — что то же — перманентного состояния слитости или сближенности без возможности разойтись, чтобы вновь сойтись.
Есть среди «Правдивых рассказов» Анри Барбюса о зверствах сигуранцы[xxxiii] такой рассказ — «Вдвоем». Любящие существа — мужчина и женщина — связываются лицом к лицу друг с другом на неограниченное время. «Побудьте вместе». Ужас этого положения и переход от сочувствия и сострадания друг к другу через мучительность в звериную ненависть.
Рассказ мне тогда показался странным среди прочих — неподдельно реалистически звучавших других.
Даже формулой своей он напоминал мне когда-то давно прочтенный в «Мире приключений», где злодеи-инквизиторы обрекают человека на то, чтобы «побыть с самим собою»: его сажают в комнату из одних зеркальных стен. Такая же комната есть и в «Призраке Большой оперы» Гастона Леру. В любом западном парке аттракционов. И, наконец, как философский образ-дериватив у… Сковороды (см. эпиграф к «Заячьему ремизу» Лескова[xxxiv]). А отец этого стиля вообще, конечно, Эдгар По в «Колодце и маятнике».
Так или иначе, спросил Барбюса (с которым очень дружил), неужели и этот рассказ — тоже правдивая история.
Автор рассмеялся и сказал, что, конечно, это выдумка.
Тем лучше! Это оказывается психологическим экскурсом в проблему — что было бы со стремлением к единству, если б не было раздвоя, — решенным здесь на классическом «примитиве» противоположностей — мужчине и женщине.
(У Бернарда Шоу есть где-то иронический пассаж по поводу мечты никогда не расставаться и навечно остаться в объятиях друг друга — и «неудобствах», если бы это произошло.)
{47} Интересно, что «ужас» перед подобной неразделенностью (лишающей возможности единяться противоположностям!) — но в космическом аспекте — есть в индусском фольклоре: в сказке о зловредном шакале, хотевшем обвенчать, то есть снова воссоединить, небо и землю. К счастью, удалось откупиться от этой его затеи — ценою оказались все вещи мира (как известно, возникшие из разделения — раздвоения единого, согласно восточным повериям: и даосизма, и иудаизма, и индуизма, и езидизма[xxxv] etc).
Contrepart[ie][4] к этому — миф маори о разрезании единого Неба-Земли, между которыми томятся ее сыновья, рвущиеся к свету и жизни.

{48} Pré-natal expérience[5] [xxxvi]
«… Il fut nourri par une chèvre et conserva longtemps des allures brusques et sautillardes de sa nourrice…»
A. Dumas-père.
«Eugene Sue» («Les morts vont vite», II, 1)[6].
И только подумать!
Всего, всего этого могло и не быть!
Ни мучений, ни исканий, ни разочарований, ни спазматических моментов творческого восторга!
И все потому, что на даче Огинских в Майоренгофе играл оркестр.
В этот вечер все дико перепились. А потом произошла драка, и кого-то убили.
Папенька, схватив револьвер, перебежал Морскую улицу водворять порядок.
А маменька, бывшая в это время брюхата мною, смертельно перепугалась, чуть не разрешилась раньше времени.
Несколько дней прошло под страхом возможности fausses couches[7].
Но дело обошлось.
Я появился на свет божий в положенное мне время, хотя и с некоторым опережением на целых три недели.
Некоторая торопливость и любовь к выстрелам и оркестрам с тех пор остались у меня на всю жизнь.
И ни одна из моих кинокартин не обходится без убийства.
Трудно, конечно, предположить, что это приключение avant la lettre[8] могло бы оставить на мне след впечатлений.
Но факт остается фактом.
Интерес к пре-натальной стадии бытия у меня всегда был очень силен.
{49} Очень быстро этот интерес охватил и область до-видового бытия.
Стали интересовать стадии биологического развития, предшествующие стадии человека!
Не останавливаясь на этом, круг интересов стал охватывать ранние формы общественных отношений — до-классовое первобытное общество, особые формы поведения и мышления.
И все эти области интересовали меня в разрезе пережитков всех этих стадий внутри нашего сознания, мышления и поведения.

{50} Monsieur, madame et bébé[9] [xxxvii]
В Петербурге маменька живут на Таврической улице, 9.
Парадное во дворе.
Лифт.
Белый мраморный камин внизу.
Весело трещит в нем огонь.
Для меня здесь всегда зима:
я бываю здесь из года в год только на Рождество.
Камин неизменно весело трещит.
Вверх по лестнице бежит красный мягкий ковер.
Будуар маменьки обит светло-кремовым штофом. По светлому фону разбросаны крошечные розовые веночки.
Такие же портьеры.
Ковер — в тон веночкам — блекло-розовый.
Будуар — одновременно спальня.
Это скрывают две портьеры, отделяющие маменькину постель.
Портьеры в таких же веночках.
Много лет спустя — уже студентом, уже на постоянном житье у маменьки — я здесь хвораю вторичной корью.
Окна завешены.
Сквозь шторы бьет солнце.
Комната погружена в ярко-розовый свет.
Жар ли это?
Не только жар: подкладка у штор тоже розовая. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь подкладку, розовеют.
Таким розовым светом просвечивают руки между пальцами, когда держишь их против лампы, или закрытые веки, когда поворачиваешь голову к солнцу.
Такой же теплый розовый свет чудится, когда думаешь о девятимесячном блаженстве пребывания в утробе…
{51} Розовый свет комнаты сливается с жаром и бредом болезни.
Спальня бабушки — я помню себя в ней совсем маленьким — была вся голубая.
Голубой бархат на низких креслах и длинные голубые драпри.
У бабушки голубой период?
У маменьки розовый?[xxxviii]
Сейчас драпри и мебель из маменькиного будуара доживают свой век на даче.
Веночков почти не видно.
Обивка стала серой.
Бахрома у кресел местами вырвана, и низ их кажется верхними челюстями, из которых местами выбиты зубы.
Серый период?
По диванчикам, козеткам, бержеркам — и как их только не называют! — там и сям разбросаны книжки.
Чаще всего это желтые томики издательства Кальман-Леви.
Книги из библиотеки дамы решительных и независимых взглядов.
На первом месте: «Nietzschéenne»[10].
Потом неизменный «Sur la branche»[11] Пьера Кульвена (Pierre Coulevain).
И, конечно, «Полудевы» Бурже[xxxix], сменившие «Полусвет» Дюма-фиса.
Под эти желтые обложки я не заглядываю.
Но вот вовсе неожиданно из цикла тематики о «полудевах» откуда-то выныривает книжечка «Les étapes du vice»[12].
Это не более не менее как жалостливая история скромной деревенской девушки, попадающей сперва на парижский «тротуар», а затем в «закрытый дом» (maison close).
Обстановка. Быт. Нравы.
Книжечка интересна тем, что полна фотографий.
Таких фотоиллюстраций, которыми um die Jahrhundertwende[13] (как говорят немцы) полны любые издания Мопассана, Колетт и Вилли, Жип.
Прелестно по своей нелепости позированные, они показывают этих барышень в ожидании «гостей», этих барышень, засыпающих {52} в своих жалких мансардах после «работы», барышень за утренним шоколадом, барышень за туалетом.
Тут же несколько документальных фотографии — роскошные кровати с нагло оголенными золочеными амурами с четырех концов.
Фотоиллюстрации девятисотых годов я люблю с пеленок.
У папеньки были вороха парижских альбомов.
Особенно много — связанных со Всемирной парижской выставкой 1900 года.
Мою «Exposition universelle»[14] я знал наизусть от доски до доски не хуже «Символа веры» или «Отче наша»!
Это были, пожалуй, первые фотомонтажи, которые я держал в руках.
Принцип этих иллюстраций состоял в том, что «в розницу» позировавшие фигуры фотографировались в отдельности, а потом вклеивались вместе в соответствующий подходящий фон.
Иногда это был фотофон. Иногда рисованный.
Это были «Кулисы кафешантана», и фигурки тогда представляли собой популярных этуалей в чрезвычайно откровенных костюмах цариц ночи, кошечек с пушистыми ушками, жокея или маркиза.
И, конечно, пожарный — le pompier — в наклеенных гигантских усах.
Или это было «Le foyer de l’Opéra»[15], в котором толпились мужчины в цилиндрах (hauts de forme), а великосветские дамы были одеты в шелковые накидки с морем кружевных оборок.
Иногда это бывал «Карнавал», и тогда все были в масках.
Или — общий вид фейерверков на Выставке.
Тогда фигурки восторгались, и особенно отчетливо было видно, что освещение на них не совпадало с источником света, а взгляды совершенно не попадали туда, куда, по общему замыслу, они должны были бы глядеть.
«Монтажи» эти были отпечатаны в разных тонах:
бледно-оранжевые, фиолетовые, нежно-шоколадные, резеда.
Может быть, интерес к монтажу начинал прокладываться у меня отсюда, хотя сам тип составной картинки значительно более древний.
Двадцатые и тридцатые годы прошлого столетия знают прелестные {53} образцы картинок, составленных из вырезанных гравюр.
Этим путем обычно украшались створчатые ширмы или плоские экраны перед каминами.
Такие ширмы сороковых годов, я помню, были еще в 1927 году среди немузейной части обстановки Зимнего дворца.
Такие же ширмы — с портретами лучших английских актеров в лучших ролях — когда-то стояли у лорда Байрона.
Само же развлечение составлять эти составные картинки наравне с искусством вырезать силуэты тянется к нам из сердцевины «дизютьем сьекля»[16] и Моро ле Жена, Эйзена и Гравело.
Это занятие называлось декупажем, и сохранились картинки с дамами, занятыми этим делом.
Другой тип фотоальбомов строился по иному признаку.
В отличие от «Paris la Nuit», «Le Moulin Rouge», «Le Casino»[17] и т. д. с Лой Фюллер, Джейн Эврил, кек-уоком, матчишем, с канканом и пр. сестрами этих фотосверстников плакатов и литографий Тулуз-Лотрека, другие альбомы носили название «Le Rêve», «Le Rendez-vous»[18] и т. д. и т. п.
Эти альбомы были уже чистым кинематографом.
Здесь страница за страницей показывалась девушка — в постели.
Девушка просыпается.
Потягивается.
Мечтает.
Вот она моется.
Вот накинула нарядную рубашку.
Вот надевается корсет.
И т. д., и т. д.
Вот она ждет кавалера.
Вот кавалер не пришел.
Здесь событие так же разложено на последующие фазы, как в удивительной серии из шести маленьких полотен Гойи, рисующих историю разбойника Маргоротто.
Вот разбойник нападает на беззащитного монаха.
Вот внезапно монах оказывает неожиданное сопротивление.
Вот еще более неожиданно монах сшибает разбойника с ног.
Разбойник взят под стражу…
{54} По принципу вторых альбомов сделаны фотокартинки в «Les étapes du vice».
«Les étapes du vice» входят в круг неизгладимых впечатлений.
(По этому же принципу делаются и книжечки «Comment on nous vole, comment on nous tue»[19], где такими же фотоинсценировками показаны способы обкрадывания клиентов «par ces demoiselles»[20], а также элегантные приемы убиения легкомысленных представителей «de ces messieurs»[21] посредством куска свинца, заложенного в пятку чулка!)
И «Les étapes du vice» беспокоят воображение, пока на ощупь в «Rue Blomet» в Париже, у «Madame Aline» в Марселе и, наконец, в «Maison des Nations»[22] на Рю Шабанне не убеждаешься, к своему несказанному удивлению, что в жизни все обстоит именно так.
И что еще более удивительно — что мало что изменилось за каких-нибудь 30 – 40 лет.
И в золотой резьбе кроватей «Дома наций» можно увидеть двоюродных братцев бесстыжих «бамбино», которые смеялись вам в детстве с картинок упомянутой книжки.
Впрочем — не совсем.
Исчезли корсеты и взбитые прически с валиком над лбом.
Исчезли ослепительные чулки с широкими полосами… поперек.
И ушли в забытье неуклюжие белые pan-pans[23] до колен.
Впрочем, это… технические детали.
Среди маменькиных диванов и козеток попались еще две книги.
В эти заглядывалось.
Не раз.
Но с беспокойством.
С известным волнением.
Даже с… боязнью.
И эти книги старательно запихивались между спинкой и сиденьем кресел и диванов.
Для верности еще прикрывались подушками — маменькиного рукоделия в манере ришелье.
{55} (Прорезные рисунки, части которых сдерживались друг с другом посредством системы тоненьких лямочек. Сколько таких узоров я калькировал для маменьки из журналов! Сколько позже сам комбинировал или сочинял самостоятельно!)
Прятались эти книжки не то от неловкости, не то из страха перед тем, что было в них,
не то для того, чтобы наверняка иметь их под рукой в любой момент…
В книжках этих было чем напугать.
Это были — «Сад пыток» Октава Мирбо и… «Венера в мехах» Захер-Мазоха (вторая даже с картинками).
Это были, сколько я помню, первые образчики «нездоровой чувственности», попавшие мне в руки.
Крафт-Эбинг попал в эти руки несколько позже.
Но к первым двум книгам у меня осталось до сих пор чувство болезненной неприязни.
Иногда я думаю о том, почему я никогда не играю в азартные игры.
И мне кажется, что это не от недостатка предрасположения.
Скорее, наоборот.
Иногда «боишься испугаться».
Это бывало у меня в детстве.
Я не боялся темноты, но я боялся того, что, проснувшись в темноте, я могу испугаться!
По той же причине я обхожу кругами область азартных игр.
Я боюсь, что, раз прикоснувшись к ним, я удержу уже знать не буду.
Я очень хорошо помню, как среди обстановки этого бело-розового с веночками будуара я лихорадочно следил за биржевыми сводками, когда маменьке вздумалось небольшой суммой «свободных денег» поиграть на бирже…
Мирбо и Мазоха, тянувших к себе, я избегал не зря.
Тревожная струна жестокости была задета во мне еще раньше.
Как странно, — живым впечатлением. Но живым впечатлением с экрана!
Это была одна из очень ранних, увиденных мною картин. Вероятно, производства Пате.
В доме кузнеца — военный постой.
Эпоха — наполеоновские войны.
Молодая жена кузнеца изменяет мужу с молодым «ампирным» сержантом.
{56} Муж узнает.
Ловит сержанта.
Сержант связан.
Брошен на сеновал.
Кузнец раздирает его мундир.
Обнажает плечо.
И… клеймит его плечо раскаленным железом.
Как сейчас помню: голое плечо, громадный железный брус в мускулистых руках кузнеца с черными баками и белый дым (или пар), идущий от места ожога.
Сержант падает без чувств.
Кузнец приводит жандармов.
Перед ними — человек без сознания с оголенным плечом.
На плече… клеймо каторжника.
Сержант схвачен как беглый.
Его водворяют обратно в Тулон.
Финал был героико-сентиментальный.
Горит кузница.
Бывший сержант спасает жену кузнеца.
В ожогах исчезает «позорное клеймо».
Когда горит кузница? Много лет спустя?
Кого спасает сержант: самого кузнеца или только жену?
Кто милует каторжника?
Ничего не помню.
Но сцена клеймения до сих пор стоит неизгладимо в памяти.
В детстве она меня мучила кошмарами.
Представлялась мне ночью.
То я видел себя сержантом.
То кузнецом.
Хватался за собственное плечо.
Иногда оно мне казалось собственным.
Иногда чужим.
И становилось неясным, кто же кого клеймит.
Много лет белокурые (сержант был блондин) или черные баки и наполеоновские мундиры неизменно вызывали в памяти самую сцену. Потом развилось пристрастие к стилю ампир.
Пока, подобно морю огня, поглотившему клеймо каторжника, океан жестокостей, которыми пронизаны мои собственные картины, не затопил этих ранних впечатлений злополучной кинокартинки и двух романов, которым он несомненно кое-чем обязан…
{57} Не забудем, однако, и того, что детство мое проходит в Риге в разгар событий пятого года.
И есть сколько угодно более страшных и жестоких впечатлений вокруг — разгул реакции и репрессий Меллер-Закомельских и иже с ними.
Не забудем этого тем более, что в картинах моих жестокость неразрывно сплетена с темой социальной несправедливости и восстания против нее…
* * *
«Monsieur, madame et bébé».
Вот еще одно заглавие книги, очень популярной в эти же годы.
Но тут уж простите!
Этой книги я не только не читал и не видел, но даже не знаю, о чем она.
Кажется, она была слегка скандальна или un peu risqué[24], во всяком случае.
Знал я ее только по заглавию.
Этим заглавием мне захотелось отбить запись некоторых моих настроений, что мучают меня последние дни.
Уж очень оно к ним подходит!
Но, конечно, как всегда, название книги потянуло за собою окружение книг, из которого оно вырывается.
Книги потянули за собой столики и кресла, по которым они были разбросаны.
Под кресла раскатились ковры.
По бокам прочертились окна.
Окна завесились шторами.
Сквозь шторы засияло солнце.
И целое погрузилось в розовую теплую мглу воспоминаний.
Розовый свет среди затянутых занавесок вызвал к жизни образ материнского лона.
И как ни странно — только именно это, да заглавие — «Monsieur, madame et bébé» — оказываются точно к месту о том, о чем я хотел написать.
<А прежде чем написать о том, о чем я хотел — о «monsieur, madame et bébé» — применительно к себе, я захотел сказать о {58} том же применительно к… экстазу.
К вопросу об экстазе я пришел через вопрос о пафосе[xl].
К проблеме пафоса — стараясь осмыслить работу по «Потемкину».
Формула сложилась как-то быстро и сама собой:
пафос — это когда все составляющие элементы находятся в состоянии экстаза.
По-русски экстаз — «ek‑stasis» — дословно означает «ис‑ступление» — «выход из себя».
Я тогда очень увлекался орфографизмом[xli].
Полагал (и вполне разумно), что истинная динамическая картина явления обыкновенно (очень часто) закрепляется в словесном обозначении, которое давалось самому явлению.>
Это началось с анализа механической формулы динамики выразительного движения[xlii].
Здесь это положение подтверждается точно.
Потому что обозначение, которое мы привыкли считать переносно-отвлеченным, само по себе продолжает оставаться тем двигательным обозначением, которое запечатлело динамический процесс этого выразительного движения.
Когда нужно проанализировать двигательную (общую «алгебраическую») формулу, отвечающую данному эмоциональному состоянию, достаточно «прочесть буквально» то обозначение, которое человечество «переносно» закрепило словесным обозначением за данным состоянием.
«Отвращение» имеет сквозь все «арифметические» оттенки частных случаев сквозную «общую» формулу двигательного процесса, который выражает это состояние вовне — «от‑вращение» (так же и, конечно, неминуемо так же a-version, Abscheu[25]), «за‑нос‑чивость», «пре‑зрение» и т. д.
Выразительное движение, перехлестывающее за пределы «человеческой системы» в пространство, становится мизансценой.
Мизансцена — это такое пространственное метафорическое начертание, которое должно обратно прочитываться смыслом.
«Слежка» выразится пространственно сохранением одного и того же расстояния между шпиком и объектом слежки.
Неизменяемость расстояния даст представление о «привязанности», «прикованности» одного к другому — и отсюда переносное чтение о «неотрывности» второго от первого.
{59} NB. Неизменяемость расстояния может быть грубо примитивной — буквальной. Но «верным» решением здесь будет, конечно, динамически постоянное расстояние: то есть некоторое неизменное среднее между меняющимися физическими интервалами.
Не: а:
________ _____
________ _____ ___
________ _____
________ _____ ___
Для анализа путь первый.
Для «сочинения» отсюда путь второй: правильно «обозвать», а затем «развернуть» формулу в конструкцию.
Верно «обозвать» можно, только точно почувствовав, точно пережив и т. д. и т. д.
Все это описано и изложено в соответствующих местах[xliii].
Этот же метод перескальзывает дальше во все вопросы формы.
Наконец, сама форма начинает прочитываться как «буквальное» чтение формулы «содержания».
И этот же прием этимологического анализа — возвращение абстрагированного термина в динамическую картину, его породившую, я с полным пылом прилагаю к разбору таких явлений, как, например, «экстаз».
Рядом идет практика.
И верность данного прочтения (да и самого приема чтения) подтверждается на каждом шагу.
В пафосе действительно каждый элемент характеризуется тем, что он в состоянии исступления.
Это все подробно изложено в трех очерках «О строении вещей»[xliv].
Для порядка вещей сюда можно было бы дать цитату:
<«… пафос — это то, что заставляет зрителя вскакивать с кресел. Это то, что заставляет его срываться с места. Это то, что заставляет его рукоплескать, кричать. Это то, что заставляет заблестеть восторгом его глаза, прежде чем на них проступят слезы восторга. Одним словом, все то, что заставляет зрителя “выходит” из себя».
Пользуясь более красивыми словами, мы могли бы сказать, что воздействие пафоса произведения состоит в том, чтобы приводить зрителя в экстаз. Нового такая формулировка не прибавит ничего, ибо тремя строками выше сказано точно то же {60} самое, так как ex-stasis (из состояния) означает дословно то же самое, что наше «выйти из себя» или «выйти из обычного состояния».
Все приведенные признаки строго следуют этой формуле. Сидящий — встал. Стоящий — вскочил. Неподвижный — задвигался. Молчавший — закричал. Тусклое — заблестело. Сухое — увлажнилось. В каждом случае произошел «выход из состояния», «выход из себя».
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 385; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!