
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Истинные пути изобретания 8 страница
|
|
|
|
На первых порах — здоровое влияние — острый обнаженно-контурный рисунок Олафа Гульбрансона.
И горы графической шушеры и дряни, вроде сухого ПЭМа из «Вечернего времени», особенно гремевшего в мировую войну сборниками «Война и ПЭМ», полными скучных Вильгельмов, совершенно напрасно меня пленявших.
Впрочем, в эту же пору я начинаю увлекаться лубками Моора.
Здесь уже какое-то ощущение штриха и контура, и очень часто — сплошная цветовая заливка поверхностей, очерченных этим контуром.
В этот период я рисую ужасно много и очень плохо, засоряя первоначальный правильный источник вдохновения плеядой низкопробных образцов и «передвижническим» увлечением сюжетами[lxxxi], вместо «подвижнического» искания форм (чем так же рьяно, в ущерб первому, буду заниматься позже, в период «артистической» уже биографии).
Рисованию почему-то не обучаюсь.
{123} А когда попадаю «на гипс», «чайники» и «маску Данте» в школе, у меня совершенно ничего не получается…
И здесь оказывается, что воспоминания о первых уроках танцев, хотя и прокравшиеся сюда вслед за сестрами Амеланг, гораздо уместнее, чем могло бы показаться.
Собственно говоря, не столько самые уроки, сколько полная моя неприспособленность к обучению этим делом.
До сих пор не могу осилить вальса, хотя фоке, в резко выраженном негритянском аспекте, откалывал с большим успехом даже в… Гарлеме и вовсе недавно допрыгался до свалившего меня на эти месяцы инфаркта миокарда[lxxxii].
В чем же здесь дело и где же связь?
Рисунок и танец, конечно, растут из одного лона, и [они] — только две разновидности воплощения единого импульса.
Уже значительно позже, после отказа от рисования[lxxxiii] и нового возвращения к рисунку, [после] «потерянного и вновь обретенного рая графики»[lxxxiv] (что случилось со мною в Мексике), я удостоился первого (и единственного!) в печати отзыва о моих графических талантах.
Такой же единственный отзыв есть у меня и о моем… актерском исполнении.
Я им безумно горжусь.
Только подумать! В нем не только сказано, что «все исполнители (в том числе и я) безбожно переиграли», но и то, что «они все (а я к тому же еще и был постановщиком-любителем этого спектакля) превратились в цирковых эксцентриков»!
Было это в конце девятнадцатого года с любительским спектаклем из инженеров, техников и бухгалтеров нашего военного строительства, квартировавшего в Великих Луках.
Отзыв был в великолукской местной газете.
Отзыв о рисунках был полтора десятка лет спустя и в… «Нью-Йорк Тайме».
И случилось это вот как и почему.
В Мексике, как сказано, я вновь начал рисовать.
И уже в правильной линейной манере.
В этом влияние не столько Диего Риверы, рисующего жирным и прерывистым штрихом, а не милой моему сердцу «математической» линией, способной на все многообразие выразительности, которой она достигает только изменяющимся бегом непрерывных очертаний[lxxxv].
В ранних киноработах меня тоже будет увлекать математически {124} чистый ход бега монтажной мысли и меньше — «жирный» штрих подчеркнутого кадра.
Увлечение кадром, как ни странно (впрочем, вполне последовательно и естественно — помните у Энгельса: «Сперва привлекает внимание движение, а потом уже то, что двигается!»[lxxxvi]) приходит позже.
И как раз в той самой Мексике, где рисунок переживает этап внутреннего очищения в своем стремлении к математической, абстрагированной, чистой линии.
Особенно остр эффект от того, когда посредством этой отвлеченной («интеллектуализированной») линии рисуются сугубо чувственные соотношения человеческих фигур, обычно в каких-либо особенно мудреных и заумных ситуациях!
Особенно сильно выраженный сенсуализм в сочетании со способностью к самому отвлеченному абстрагированию Бардеш и Бразильяк считают основным признаком моих творческих особенностей, что мне очень льстит и очень меня устраивает (см. «Histoire du cinéma»[lxxxvii]).
Здесь влияние, повторяю, не столько Диего Риверы, хотя известным образом и вобравшего в себя до известной степени синтез всех разновидностей мексиканского примитивизма: от барельефов Чичен-Итцы, через примитивные игрушки и росписи утвари, до неподражаемых листов иллюстраций Хосе Гуадалупе Посады к уличным песням.
Здесь, скорее, само влияние этих примитивов, которые я жадно в течение четырнадцати месяцев ощупываю руками, глазами и исхаживаю ногами.
И, может быть, даже еще больше сам удивительный линейный строй поразительной чистоты мексиканского пейзажа, квадратной белой одежды пеона, круглых очертаний соломенной его шляпы или фетровых шляп дорадос.
Так или иначе, в Мексике я рисую очень много.
Проездом через Нью-Йорк встречаюсь с хозяином «Бекер-Галери» (кажется, Бекер).
Он заинтересовывается рисунками и просит их оставить ему.
Они достаточно бредовы по сюжетам, например «циклы» Саломеи, пьющей соломинкой из губ отрезанной головы Иоанна Крестителя.
В два цвета — двумя карандашами.
«Сюита» на тему «боя быков», где в самых разных сочетаниях эта тема сплетается с темой святого Себастьяна.
{125} Причем то это мученичество матадора, то… быка.
Есть даже рисунок… распятого на кресте быка, пронзенного стрелами, как святой Себастьян.
Я здесь ничем не виноват.
Это Мексика в одной стихии воскресного празднества смешивает кровь Христову утренней мессы в соборе с потоками бычьей крови в послеобеденной корриде на городской арене; а билеты на бой быков украшены образом мадонны де Гуадалупе, четырехсотлетие которой знаменуют не только многотысячными паломничествами и десятками южноамериканских кардиналов в багряно-красных облачениях, но и особенно пышными корридами «во славу Божьей Матери» («de la madre de Dios»).
Так или иначе, рисунки вызывают любопытство мистера Бекера (или Брауна?).
А когда на экраны выходит злополучный оскопленный вариант [фильма] «Que viva Mexico!», чьими-то нечистыми руками обращенного в жалкий бред «Thunder over Mexico»[88], «предприимчивый янки», как сказали бы у нас в «Вечерке», выставил эти рисунки в маленьком боковом фойе одного из театров.
Таким образом заметка о рисунках попадает в газету.
И один рисунок — даже в продажу.
До меня доходит перевод на… 15 долларов.
Я сильно подозреваю, что купила рисунок миссис Айзеке, ибо один рисунок из серии «боя быков» позже я увидел на страницах «Theatre arts magazine»[89] (до того как он стал именоваться просто «Theatre arts»[90]).
Если я разыщу в ворохах печатной кинематографической славы эту пожелтевшую единственную рецензию обо мне — графике, я непременно подошью ее здесь к этому месту.
Но помню я из нее главное, и именно то, что к месту мне здесь нужно.
А именно отзыв о легкости, с которой они набросаны на бумаге, «словно протанцованы».
Рисунок и танец, вырастающие из лона единого импульса, здесь встречаются.
И линия моего рисунка прочитывается как след танца.
{126} Здесь, я думаю, и ключ к «тайне» одинаковой моей неудачливости как в обучении танцам, так и в обучении рисунку.
Гипсы, которые я рисую на конкурсном экзамене в Институте гражданских инженеров и на первом курсе института, еще более отвратительны, чем то, что я кропал в реальном училище.
Бр‑р‑р! Мне вспоминается еще чучело орла, терзавшего меня месяцами в классе рисунка господина Нилендера не хуже прикованного Прометея.
Кстати, тема Прометея и орла — тоже одна из тем, неизменно возвращающаяся под перо и карандаш, когда я начинаю гирлянду страница за страницей заполняемых рисунками, особенно охотно на листах отельной бумаги.
(Где-то я вспоминаю о том, что Морис Декобра принципиально пишет свои романы на увезенной отельной бумаге и предпочтительно в пульмановских или иных… sleeping’ах[91].)
Надо будет когда-нибудь проанализировать и ход «тематики» моих рисунков.
Впрочем, здесь больше дыр, чем сыру.
Наиболее показательные и беззастенчиво откровенные беспощадно рвутся в клочки почти тут же, а жаль — они почти автоматическое письмо[lxxxviii]. Но боже мой! До какой же степени непристойное!!
Упрямый, тупой и мертвый гипс мне совсем не по духу!
Может быть, и тем, что в законченном рисунке здесь полагается объем, тень, полутень и рефлекс, а на графический костяк и линию ребер наложено запретное «табу».
Но еще больше потому, что в методе рисования с гипса такой же нерушимо железный канон, как и на строгости «па» всех этих танцев моего детства и юности — падепатинер, когда берутся ручками крест-накрест, падеспань, где предлагается «чувствовать себя испанцем». Это кричит уже другой учитель танцев в реальном училище, господин Каулин, латыш с фабреной бородкой и усами, [с] ватой подбитыми плечами, во фраке и коротких атласных штанах над черными чулками и туфлями.
Да‑да‑да, представьте!
В четырнадцатом году. Я это хорошо помню, потому что из окон его «танцкласса» я вижу первое патриотическое факельное шествие с ревом, криком и портретом государя.
Еще танцуются кикапу, хиавата (по формуле «Hacken — Spitzchen — {127} eins-zwei-drei»[92]) и неизменные венгерка и чардаш.
Теперь я точно знаю, что тормозило меня тогда — сухость ненарушимой формулы и канон как движений танца, так и рисунка.
А понял я это тогда, когда в двадцать первом году стал сам обучаться у щуплого, исходящего улыбкой Валентина Парнаха фокстроту, обучать которому моих актеров я пригласил его в мою студию при московском Пролеткульте.
Тут же учил и «технике комического рассказа» до слез растроганный Владимир Хенкин, когда я пригласил его читать столь «академический» курс.
Акробатику — у compris[93] технику полетов — там преподавал Петр Кронидович Руденко — глава несравненного «Трио Жорж», своими полетами в золотисто-желтых трико восхищавшего меня еще в детстве под куполом цирка Саламонского на Паулуччиштрассе в Риге.
Паулуччиштрассе. Паулуччиштрассе.
Не скажу, чтобы она была бы памятна.
Родился я уже на Николаевской улице.
Но… медовый месяц мои родители проводили в бывшей холостяцкой квартире папеньки.
На улице Паулуччи, рядом с цирком Саламонского (или Труцци? В Питере был Чинизелли. Где же тогда Саламонский?).
На занятиях по «фоксу» я понял основное: в отличие от танцев моей юности со строго предписанным рисунком и чередованием движений здесь имелся «вольный танец», сдерживаемый только строгостью ритма, на костяке которого можно расшивать любую вольную импровизацию движений.
Вот это меня устраивало!
Вновь здесь обретался вольный бег пленяющей меня линии, подчиненной лишь внутреннему закону ритма через вольный бег руки.
К чертям неэластичный и ломкий гипс, пригодный больше всего оковывать поломанные члены на период сращивания костей!
По этой же причине я никак не мог одолеть чечетки. Я долбил ее добросовестно и безнадежно под руководством несравненного и очаровательного Леонида Леонидовича Оболенского, {128} тогда еще танцора-эстрадника и еще не кинорежиссера пресловутых «Кирпичиков» и «чего-то» с Анной Стэн[lxxxix], еще не неизменного ассистента моих курсов режиссуры во ВГИКе (начиная с ГТК в 1928 году), и никогда не предполагавшего стать…
монахом в Румынии, куда его занесло вслед [за] побегом из немецкого концлагеря, после того как в 1941 году он сорвался с грузовика, стараясь заскочить в него при отступлении наших [войск] из-под Смоленска!
Только моя совершенная неспособность постигнуть тайну техники чечетки лишает мои воспоминания страницы о том, как я отстукивал чечетку, стоя в очереди разгоряченных самцов, ожидающих допуска в спальню мадам Брюно, в постановке «Великодушного рогоносца».
… Как вольны были в те годы постановщики!
И разве сам я в «Мудреце» об эти же годы не вклинивал в спектакль аристофановски-раблезианскую деталь — нет, деталь (по крайней мере масштабами!), превосходившую атрибутами «мимов ателлан»[xc], когда заставлял взбираться мадам Мамаеву на «мачту смерти» — «перш», торчавший из-за пояса генерала Крутицкого, на высоту до балкона бального зала морозовского особняка на Воздвиженке[xci], где игрались безумные спектакли «моего» Театра московского Пролеткульта?
Много лет спустя, совсем недавно, там же, в этом зале, давался объединенный банкет в честь приехавшего Пристли[xcii], юбилея «Британского союзника» и отъезда британской военной миссии.
Боже мой! Я сижу за столом почетных гостей, стоящим на месте наших маленьких портативных подмостков — играли мои артисты перед ними на круглом ковре, обшитом широкой красной полосой условного циркового барьера.
И сижу я точно на месте, откуда тянулся — от крючка в партере наискосок через зрительный зал к балкону в другом конце зала — стальной трос.
По тросу вверх, балансируя оранжевым зонтом, в цилиндре и фраке, под музыку движется Гриша Александров.
Без сетки.
А ведь был случай, когда верхняя часть троса оказалась в машинном масле.
(От колесика, держась за которое после него обратно сверху вниз по тому же тросу съезжал Мишка Эскин, погибший уже за пределами нашего театра. В какой-то поездке «Синей {129} блузы»[xciii] ему на железнодорожных путях отрезало обе ноги. Какой ужасный конец для акробата! А каким прекрасным акробатом и эксцентриком был Мишка!)
Гриша потеет, пыжится, пыхтит. Ноги на тонкой лосиновой подметке, хотя и с отделенным большим пальцем, обнимающим трос, скользят немилосердно вспять.
Зяма Китаев — наш пианист — начинает повторять музыку.
Ноги скользят.
Грише не добраться.
Наконец кто-то, разобрав, в чем дело, протягивает ему с балкона трость.
На этот раз Гриша благополучно водворен на балкон!
Кажется, что это было вчера.
Что вчера еще я бегал, затыкая уши, по подвалам морозовского особняка, [по] кухням в голубых кафелях, стараясь не думать о том, что Верка Янукова сейчас взлетает на перш, а Саша Антонов (Крутицкий) не совсем трезв в этот вечер.
Мертвая тишина.
Все застыло наверху во время смертельного номера.
Затем грохот аплодисментов, глухо отдающихся в кухне.
Это Верка — Верочка! — кончила номер и лихо прокричала:
«Voilà!».
И боже мой, как это было давно!
… Я стараюсь под столом разглядеть более светлый кусок паркета, заделавший место, где когда-то был крюк для троса.
И сознаю, как это было давно, только тогда, когда в порядке светской беседы сидящий рядом со мной английский генерал с седеющими сталью висками — он глава отъезжающей британской миссии — заводит со мной разговор о… воспитании детей.
«Я воспитывал своих сыновей (один из них — громадина в забавном британском мундире танцует тут же неподалеку, по тому самому паркету, где я когда-то учился у Парнаха) в сознании того, что, взойдя на гору, и сухую корку хлеба станешь есть с радостью…»
Боже мой! Неужели я уже так стар и должен выслушивать такие речи и на том же самом месте, где я когда-то воспитывал — и вовсе иначе — целую ораву молодых энтузиастов, с этой самой точки, где сидим сейчас мы, восходивших совсем не в пуританских лозунгах на горы, а по наклонным тросам — на балкон, кувыркавшихся здесь на матах, любивших друг друга по {130} ночам на свернутых коврах, под сохнущими плакатами декораций и вводивших в этот самый зал… живого верблюда через всю Москву из Зоологического сада для участия в одном из моих спектаклей[xciv].
На нем въезжала и поныне здравствующая заслуженная артистка Юдифь Самойловна Глизер в одной из своих [ролей] — и в первой гротескной своей роли, безусловно.
… Еще хуже, чем с чечеткой, обстояло дело с ритмикой.
По ритмике — я назвал бы это праздное занятие, преподаваемое последышами порочной системы Далькроза, метрикой — я просто и неизменно «просыпался» как на вступительных экзаменах, так и на зачетах в блаженной памяти Режиссерских мастерских Мейерхольда на Новинском бульваре.
Хорошо, что у меня находились иные достоинства, спасавшие меня от того, чтобы вылетать на улицу после каждой проверочной сессии.
Кто поверит этому после того, как в связи с «Потемкиным» писалось в Америке, что я открыл миру глаза на ритм в кинематографе, и ритм действительно был и оказывался одним из самых сильных средств в моих киновещах?
Впрочем, кто поверит тому, не убедившись сам, что чудодейственный мастер ритмов С. С. Прокофьев, танцуя (опять танцы!) в гостиной, совершенно безнадежно не может попасть в такт и нещадно оттаптывает ноги своим дамам!
Итак, мы договорились — дописались — до того, что обнаружили в основе у себя давнишний конфликт между вольным током all’improviso[94] текущей линии рисунка или вольного бега танца, подчиненных только законам внутреннего биения органического ритма намерения, и рамками и шорами канона и твердой формулы.
Собственно говоря, упоминать здесь формулу не совсем к месту и не совсем справедливо.
Формула именно имеет своей прелестью то, что, формулируя сквозную закономерность, она дает простор вольному течению сквозь нее потоку «частных чтений», частных случаев и величин.
В этом же прелесть учения о функциях, теории пределов и дифференциалах.
Этим мы коснулись одной из основных сквозных тем, тоже {131} формулой — в таком понимании — проходящей сквозь все почти основные этапы моих теоретических исканий, в которых она неизменно повторяет исконную эту пару и конфликт соотношения ее составляющих.
Меняются только «частные чтения» в зависимости от проблематики.
Будет ли это выразительное движение
или принцип строения формы.
И это не случайно.
Ибо в этом конфликте заключен сквозной конфликт соотношения противоположностей, на котором стоит и движется все старое как мир.
И древнее, как символы китайских Ян и Инь, которых я так люблю.
Так движется и моя работа.
Капризным произвольным потоком в картинах.
И в попытках сухим отстуком «метронома» расчленять поток потом «по закономерностям».
Но и тут я всюду ищу подвижность метода, а не несгибаемость канона, а самой любимой темой и областью моих исканий остается вопрос об исходном «протоплазматическом» элементе в творениях, произведениях и роли его в строении и осознании формы явлений.
Этот же поток захлестывает меня в теоретических моих писаниях, когда я ему даю волю в мириадах отступлений от главной темы,
и безнадежно сушит их, как гипс в рисовальном классе или [как] спазмы оцепенения при встрече с сестрами Амеланг в танцклассе Дарагана или Каулина, когда он изгоняется с их страниц.
В угоду этому первичному току я начал писать эти воспоминания с единственной (? — может быть, но с основной — безусловно) целью — дать себе полную волю барахтаться в вихрях и завихрениях любых ассоциаций, всплывающих по ходу этих изложений!
А правка и редактура того, что следует сдавать в печать, позорно, преступно и унизительно, недвижным гипсом лежит рядом, и все потому, что так не хочется мне «темперировать» то, что и там, в черновиках, лилось потоком вне рамок и ограничений!
Удовольствие писать это еще и в том, что тут я свободен и от категории времени, и от категории пространства. Я не вынуждаю {132} себя быть последовательным ни в развертывании картин событий, ни в размещении их по признакам географии.
Свободен я также и от их синтезирующего брата — строгости логической, переносящей принцип последовательности в области суждения и дисциплинирования мышления.
И затем, что может быть увлекательнее совершенно бесстыжего нарциссизма, ибо что эти страницы, как не бесчисленный набор зеркал, в которые можно смотреться, и в ответ будешь глядеть сам, при этом любого и самого разнообразного возраста.
Не потому ли так щепетильно [и] беспрестанно котируются год и место в этом каскаде издевательства над последовательностью времени, непрерывностью сменяющихся мест действия и доброй логикой направленности и назначения!
И освобожденность от всех трех разом!
Что может быть прекраснее?!
Не это ли… рай как сколок со счастливейшего этапа нашей жизни, еще прекраснее, чем обеспеченное детство, — тот благостный этап, когда, свернувшись калачиком, первым калачиком нашего бытия, мы дремлем, мерно покачиваемся, защищенные и недоступные агрессии, в теплом лоне наших матушек?!
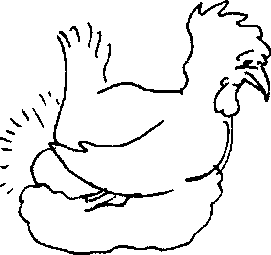
{133} О фольклоре[xcv]
Если бы я позировал больше, чем я позирую.
Или если бы я вздумал разыграть мой материал в стиле детективного романа.
Я начал бы так.
Был дождливый июльский день лета 1946 года в дачной местности Кратово по Казанской железной дороге.
Я сижу и читаю относительно свежий детективный роман 1944 года — о похождениях детектива Лена Вайатта в борьбе его с деятелями черной биржи и нацистскими шпионами.
Перипетии погони не отвлекают и не увлекают меня настолько, чтобы не замечать красот стиля даже в таких книгах, как этот opus Николаса Брэди, хотя сам автор, вероятно, меньше всего претендует на это.
Однако авторы подобных сочинений либо очень удачно подхватывают в свои произведения хорошие образцы подлинного slang’а[95], или хорошо стилизуются под эту красочную манеру создавать новые и выразительные фигурные обороты речи, выражения и слова.
Создание сленговых выражений, образов и оборотов речи — это такое же коллективное, безымянное и народное творчество, как в прошлом любые иные виды фольклора, столь же безымянного, коллективного, народного и массового.
Каждое личное остроумие вносит свой анонимный вклад в общее дело, и то выражение, которое задевает наиболее глубокие чувственные пружины остальных, выживает, вступает в оборот и не пропадает из обихода на долгое время.
Если образ, а выражения всегда образны, целит прямо в глубинные слои чувственных восприятии, а случается это с ним лишь только тогда, когда само оно [выражение] естественно и {134} органически растет именно из таких же слоев своего «создателя», они — и образ, и выражение — имеют все шансы задержаться в обиходе и доставлять громадное удовольствие рядовым слушателям и тем, кто любительски охотится за подобными выражениями современного народного поэтического творчества.
Увлечение фольклором давно уже укрепилось как признак хорошего тона среди широких слоев советской интеллигенции, литераторов и литературоведов.
Должен сознаться, что меня всегда несколько смущало это чрезмерное увлечение.
Оно мне всегда — за исключением очень немногих энтузиастов — казалось не совсем искренним и скорее позой, нежели искренним пониманием. Скорее цитатным увлечением тем, что входило в понятие литературоведческого «comme il faut».
Может быть, я не совсем справедлив в этом, и, может быть, это не более как отражение моего собственного отношения к этой «моде».
Я никогда не мог увлекаться образами «Калевалы», хотя меня старались приобщить к ней.
Болгарский эпос и «Песни западных славян»[xcvi] даже в обработке Пушкина меня никогда не прельщали.
Нужно сознаться, что это меня даже огорчало.
Как-никак первичные основы народной души и народного духа здесь воплощены несомненно.
Припадание к этим первичным истокам столько раз на протяжении истории искусств оказывалось плодовитым и плодоносящим, что волей-неволей приходилось задумываться над тем, почему у меня так упорно не «лежала душа» к несчетному обилию образцов фольклора, так кругом превозносимого и так обильно издаваемого издательством «Academia»[xcvii] в период особенно восторженного увлечения этими творениями народного сказа.
Конечно, были и исключения: «Слово о полку Игореве» я глубоко люблю со школьной скамьи.
«Миракли Божьей Матери» — этот средневековой фольклор — цикл самых любимых моих произведений.
«Нибелунгов» я любил с детства, пока мне не испортили их фильмы Фрица Ланга[xcviii].
Поправил дело в дальнейшем Вагнер[xcix], но вернул не к увлечению германизированным эпосом, а открыл собой увлечение {135} нордической «Эддой», древом Игдразил и всей причудливой космогонией «в лицах» глубокого скандинавского Севера.
Еще больше увлечений отдано безымянным дикарям — клиентуре фрэзеровской «Золотой ветви», и, в меньшей степени, — им же у Веселовского, ибо у него они — эта «меньшая братия» — представлены меньше и менее колоритно, чем у сэра Джошуа.
И вообще, как они сами, так и их фольклор — бушменский, полинейзийский, австралийский, североамериканский или мексиканский — у нас в загоне и в полупочете, сравнительно с зализанными образцами более популярных фольклоров.
Между тем эти виды гораздо увлекательнее, ибо в них на живую ощупь ощущаешь становление образного мышления, видишь колыбель будущих представлений и как бы соучаствуешь в динамике образования концептов, а самые образцы творчества ощущаются как стадия развития умственных способностей и мышления.
Более популярные — более популярные, вероятно, именно потому! — более ходкие образцы фольклора — даже, например, Добрыня Никитич в сравнении со Святогором! — уже утрачивают это ощущение творческой лавы на стадии кипения, а кажутся лавой, застывшей изящными потоками уже сформировавшейся массы, уже оформившейся, а не формирующейся, и потому столь удобной для… готового заимствования и несложных форм вдохновения.
И это нас уже прямо подводит к той области рьяного, буйного и безудержного азарта, с которым я предаюсь своим увлечениям тогда, когда они меня подлинно, действительно и действенно увлекают.
Мне просто как-то никогда не приходило в голову систематически полагать эту область отраслью фольклора, хотя именно как таковая она меня и пленяла, и увлекала.
В то время как средний советский интеллигент «изблатовывался» вдоль и поперек, чтобы позже хвастать полными комплектами изданий издательства «Academia», и фольклорный жаргон не сходил с его уст, я тихо-тихо завлекал в свои книжные сети томик за томиком, посвященные парижскому «арго», лондонскому «канту» и позже американскому «сленгу».
Если исследовательский интерес к «арго» во Франции заставляет широко публиковать соответствующие словари и исследования очень давно, то книги (кроме очень специальных и давно {136} вышедших из печати) по «сленгу» в настоящей полноте (зато и в высшей степени обильно) начинают выходить гораздо позже.
… Такой «маяк» на этих путях, как «The American language» Менкена, выходит в 1919 году («Supplement»[96] — в 1945‑м), а «Dictionary of slang and unconventional English» в 1937 году, а почти исчерпывающий «Thesaurus of slang» только в 1943‑м (?).
Впрочем, первые экземпляры моей подборки укладываются ко мне на полки еще гораздо раньше. «Dictionnaire de la langue verte» помечен 1921 годом.
Так же словари Аристида Брюана («L’argo parisien»).
Но до того, как для меня открывается доступ к возможности специальных словарей и исследований, их заменяет временно один разрозненный томик Бальзака.
«Une instruction criminelle»[97] — одна из разрозненных частей «Блеска и нищеты куртизанок», одного из наиболее любимых мною его романов, считая и остальные, примыкающие сюда романы корентеновского и вотреновского циклов [c]. (Из остальных на первом месте, пожалуй, «Кузина Бетта», которую я несколько раз порывался инсценировать и ставить[ci], даже где-то сохранился общий, довольно подробный план как драматургического, так и сценического ее разрешения.)
Эта «Instruction» попалась мне как-то очень давно, и притом изолированно — вне контекста с другими романами (по-моему, еще до революции).
Потом, позже, как Изида собирала разорванные члены Озириса[cii], я собираю по частям из остальных романов составные черты, чтобы получить полное представление о фигурах Рюбампре, Растиньяка, Вотрена, Корали, Эстер.
Но, может быть, именно потому, что сюжетно этот роман, взятый сам по себе, некоторым образом — без головы и хвоста, так особенно ярко впечатляют страницы Бальзака, посвященные тюремному «арго».
Язык этот пленял Бальзака, конечно, тем же ощущением живого динамизма и становления.
Не забудем его увлечения этимологией (грех, которым я страдаю с очень давних дней!) — и [того], что именно Бальзаку принадлежит прелестный пассаж на эту тему в «Луи Ламбере», где он пишет об увлекательности путешествия по истории слов {137} обратно к источникам их становления и образования.
Однако первая встреча с «арго» происходит не на романах Бальзака.
И даже не на «Les Mysteres de Paris»[98], которыми мне удается завладеть в Риге (до 1914 года) в издании, частично иллюстрированном «деревяшками» с рисунков Домье.
Помню, что в окне книжного магазина Кюмпеля, в окне, выходящем в переулок, книга была открыта на странице, изображающей молодого босяка и хулигана, подручного Совы и Школьного учителя — Тортильяра, среди иллюстраций, принадлежащих именно великому тезке Бальзака — тоже Оноре!
Весьма возможно, что именно этот факт и навел меня на покупку прелестного шедевра Эжена Сю!
Это даже не случайно, если вспомнить, что «Блеск и нищета» самого Бальзака написаны под влиянием творения Сю, имевшего бешеный успех в печати.
Бальзак завидовал и сознательно шел на подражание, и влияние одного на другого очень отчетливо в этом романе, кстати же сказать, в последних своих частях, наименее влиявших на создание Бальзаку репутации «классика» в мнении высоколитературной критики. (Tant pis[99] для нее!)
Великолепный display[100] народных оборотов речи, словечек, животрепещущих, подхваченных с улиц, из тюрем и трущоб города Парижа — все эти tapis-franc, goualeuse, chourineur[101] и пр. — тоже были не первой встречей и не первым впечатлением от колоритных подонков столицы Франции и их цветистой манеры выражаться.
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 335; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!