
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Зак. 494 3 страница. -Однако это возрождение происходит на совсем ином уровне
|
|
|
|
-Однако это возрождение происходит на совсем ином уровне
-текстового сознания (различные представления об авторстве, авторитетности, аудитории, целях и т. д.). По меркам современного литературоведения «Эйга-моногатари» находится ближе всего к документальному историческому повествованию, в котором основная установка автора состоит в раскрытии внутреннего мира реальных исторических лиц (реконструкция) при
-строгом следовании фактам (отражение). При этом, однако,
-субъективная установка на достоверность выполняется далеко не всегда (ввиду недостаточной компетентности автора, специфики индивидуального творчества, имплицитно предполагающе-
зго наличие элемента субъективизма и т. д., — для «Эйга-моногатари» важно не только то, что произошло, но и как).
И еще одна черта исторических повестей, роднившая их с
-Художественной литературой. Речь идет о принципе диалогично-сти, первоначально разработанном в поэзии. В «Окагами» историческое повествование вложено в уста двух старцев — Оякэ-но Вцуга (ему 150 лет) и 140-летнего Нацуяма-но Сигэки, которые Встречаются в буддийском храме Уринъин перед началом про-
"поведи с «Сутре лотоса» и предаются воспоминаниям о прошлом. Сам же текст принадлежит кисти анонима, которому случилось
присутствовать при их разговоре.
Использование хираганы как вида письменности, наиболее полно отражавшего живую речь, повлекло за собой непосредственное обращение к диалогу, которому отводится функция пе-
-.ревода монологического китаеязычного текста исторических хро-
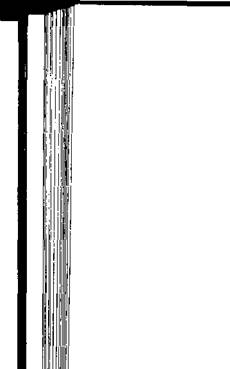
|

|

|

|
ник в японоязычный (по своим содержательным задачам также монологический). Языковое сознание эпохи еще не было готово к монологическому изложению истории на родном языке — отсюда и композиционное использование диалога, который на самом деле носит по преимуществу сугубо монологический характер,— многостраничные «реплики» персонажей не оставляют е том сомнений. Диалог в данном случае — лишь оправдание япо-ноязычности текста, само использование которого создает определенно окрашенную семиотическую ситуацию (отсюда — обильное цитирование вака, появлявшихся на страницах «настоящих» хроник (гококуси) достаточно редко).
Откровенная нереалистичность диалога подчеркивается к возрастом его участников, который призван обосновать глубину памяти сочинения, охватывающего период с 850 по 1025 г. Возраст рассказчиков тем более удивителен, если учесть, что в Японии времени действия «Окагами» под непосредственным влиянием буддизма уже начинают распространяться эсхатологические представления, одним из проявлений которых было убеждение в постоянном сокращении человеческой жизни. Для придания авторитетности сообщаемой информации сами рассказчики объясняют свое долгожительство преданностью учению Будды.
В «книжном» китаеязычном произведении ссылки на прошлые письменные источники обычны и оправданны. В тексте же устном, который охватывает события «ближней» истории, наибольшей достоверностью обладают сообщения очевидцев. Сам Ёцуги утверждает, что не может поведать обо всех императорах, начиная с Дзимму, ибо память его охватывает события лишь с Монтоку, т. е. фактически с того момента, на котором заканчивается изложение «Риккокуси», восстанавливая, таким образом, прерванную последовательность исторического повествования.
Текст «Окагами» состоит из пяти частей. В первой описываются обстоятельства встречи Ёцуги и Сигэки. Вторая представляет собой список императоров от Монтоку (850—858) до Гоитидзё (1016—1036) с краткими формульными аннотациями их правлений (родословная, время совершения церемонии посвящения в мужчины, восхождения на престол, отречения и т. п.). Событийная сторона правления являет собой по преимуществу отчет об императрицах из дома Фудзивара и о тех привилегиях, которых удалось добиться его представителям. Пространственный и социальный размах исторического повествования, таким образом, еще более сужается — даже по сравнению с «национальными хрониками». История двора и столицы становится историей двух родов, накрепко соединенных брачными связями.
До тех пор пока в потенциальный круг брачных кандидатов для императорского дома входил более широкий круг придворных, социальный размах «национальных хроник» охваты-
1д всю придворную жизнь (но почти не включал в себя ларод», исключенный из брачного класса). Теперь, когда нвеальное соотношение сил окончательно сузило возможность."выбора, историография прореагировала на него резким сужением изображаемого социума. «История» в таком понимании близится к «политике», основным содержанием которой является установление благоприятных родственных связей.
Если временным модулем «Окагами» по-прежнему остается правление императора, то «хозяином» текстового пространства становятся Фудзивара: наиболее пространная третья часть повествования посвящена подробному изложению биографии девятнадцати членов дома Фудзивара, занимавших выдающееся положение в придворной иерархии. В биографиях рассказывается как об их чиновничьих карьерах, так и о свойствах натуры, проявлявших себя временами достаточно анекдотично.
Перед тем как начать свой рассказ, Ёцуги обосновал необходимость такой беллетризации истории. Согласно его словам, люди полагают, что все предшественники последнего «канцлера» Митинага были похожи на него. Но это не так. Каждый из них обладал собственными свойствами, о которых и повествуется в третьей части «Окагами».
Свойства эти могут реализоваться в весьма фривольных ' исторических анекдотах. Так, о Левом министре Токихира (871 — 908) рассказывается, что его одолевали приступы неконтролируемого смеха. Его политический соперник Сугавара Митидзанэ однажды воспользовался этим обстоятельством, чтобы без помех решить государственные дела в одиночку. Он сговорился с неким мелким чиновником, который, подавая Токихира бумаги на рассмотрение, испортил воздух. Токихира, как и ожидалось, не смог преодолеть приступ хохота и отправился домой, оставив решение дел на усмотрение Митидзанэ.
Подобные анекдоты бывают порой весьма занимательны, герои сверкают живыми гранями характера, что роднит их до., некоторой степени с персонажами литературы художественной и свидетельствует о пробудившемся интересе к человеку как соучастнику истории. Не следует, однако, забывать, что главной установкой при изображении хода истории было стремление к фактологической достоверности. Анекдот, перипетии придворных интриг, сопровождавшие возвышение того или иного Фудзига-ра,— проявления в истории частного. Главное же — неизменно. Отсюда — обязательные формульные характеристики — такие же, что применялись и по отношению к императорам. Исторический анекдот был важен не сам по себе, а как часть достоверной истории, как живая переменная в статичной автобиографии «государства».
У «Окагами» немало черт, отделяющих это сочинение от
прошлой исторической традиции. Одной из них, и притом очень
существенной, является нарушение хронологического принципа
овествования, соблюдавшегося ранее неукоснительно. Автор
«Окагами» перестает следовать за временем и заставляет время следовать за собой: четвертый раздел памятника частично посвящен событиям более ранним, чем те, о которых повествуется в третьем, и состоит из преданий о происхождении рода Фудзивара, его разделении на четыре ветви, о родовом божестве дома и его храмах.
В пятой части, отвечая на пожелания собравшихся слушателей, рассказчики попеременно повествуют о различных событиях, случившихся на их памяти. Пожалуй, это единственная часть книги, где действительно происходит диалогический обмен— репликами и занятными историями, не могущими быть включенными в канву основного повествования ввиду их недостаточной значимости для государственных дел. Здесь и рассказы об обмене поэтическими посланиями, о церемониях и праздниках, о случаях, приключившихся на охоте, истории, где главными действующими лицами являются буддийские монахи и члены рода Минамото. Это — история «неформальная», меньше скованная рамками официальных представлений.
Несмотря на значительные отличия «Окагами» от предшествующей исторической традиции, следует признать, что и в этом сочинении еще не выработан авторский взгляд на историю. Рассказчики «Великого зерцала» по преимуществу отражают факты, а не интерпретируют их. Их взгляды редко формулируются сознательно, а лишь присутствуют в тексте эксплицитно (через отбор фиксируемых фактов и речь персонажей), хотя проявившийся интерес к выдающимся (в их понимании) чиновникам и личностному началу в истории создает предпосылки для оценочного и концептуального подхода.
Социум, описываемый «Окагами», сузился, но это дало возможность для его более пристального рассмотрения. Вместо оптического прибора с широким углом видения стал использоваться микроскоп. Но далеко не столь мощный, который употреблялся при создании художественной прозы.
Еще одним важным отличием «Окагами» от «Пяти национальных хроник» стало значительно большее единство текста, предстающего во многих своих частях как рассказ, который не может быть расчленен на отдельные фрагменты без нанесения ущерба связности произведения. В этом аспекте «Окагами» имеет больше сходства с «Нихон секи», «Когосюи» и «Такахасиуд-зи буми», хотя, судя по всему, текстологической основой «Великого зерцала» послужили записи, сходные по своему характеру с материалами «Гококуси».
Подобная связность текста предполагает выявление причинно-следственных связей — задача, которую не ставит перед собой составитель погодных хроник. Так, согласно данным Ногу-ти Такэси, систематизировавшего данные «Национальных хроник» о молениях, проводившихся о ниспослании дождя или его прекращении, в хрониках весьма редко зарегистрировано, имели эти моления желаемый эффект или нет [Ногути, 1986].
Отсутствие вербализованной концепции истории и сверхзадачи повествования получают свое выражение в том, что текст «Окагами» не имеет сколько-нибудь значимой концовки: когда начинается проповедь, рассказчики исчезают, и все попытки отыскать их заканчиваются неудачей. Достаточно случайно нанизанные анекдоты и «новеллы» пятой части не образуют строгой структуры и их количество может определяться лишь чувством меры автора.
Помимо «Окагами» и «Эйга-моногатари» к историческим повестям относят: «Имакагами» («Нынешнее зерцало», составлено около 1170 г., охватывает период с 1025 по 1170 г., автор — Фудзивара Тамэцунэ), «Ияёцуги» (рубеж XII—XIII вв.? — до правления Готоба, Фудзивара Таданобу, текст утерян), «Масу-кагами» («Чистое зерцало»,?, 1183—1333, автор неизвестен), «Мидзу кагами» («Водное зерцало», конец XII в., от Дзимму до 850 г., Накаяма Тадатика) и некоторые другие.
Мы оставляем эти произведения исторического жанра «рэки-ои моногатари» за пределами нашего анализа. Каждое из них имеет присущие только ему особенности. Однако у сочинений этого класса текстов все-таки больше сходств, нежели различий. Прежде всего к ним относятся: способ записи (японский литературный язык); наличие, как правило, одного автора; несанкционированность государством; беллетризованность.
Следующим качественно новым этапом в развитии исторической мысли Японии явилось появление сочинения Дзиэна (1155—1225) под названием «Гукансё» («Записки глупца», издание текста см. [Гукансё, 1967], перевод [Браун и Исида, 1979]).
Дзиэна часто называют первым историком Японии. И это справедливо. Если всех предыдущих авторов или же составителей исторических сочинений можно назвать хронистами (т. е. их главной целью являлась регистрация событий), то Дзиэн впервые стал интерпретатором фактов и создал оригинальную концепцию исторического развития. Применительно к Дзиэну впервые можно говорить об индивидуальном осмыслении истории.
Поскольку личность и судьба Дзиэна наложили глубокий отпечаток на его сочинение, ознакомим сначала читателя с его биографией, чтобы перейти затем к анализу его исторических взглядов.
Монах Дзиэн был представителем северной ветви рода Фудзивара. Уже сама принадлежность к этому дому до некоторой степени могла служить гарантией блестящей чиновничьей карьеры. И действительно: три старших брата Дзиэна становились регентами императоров, а три его сестры — императрицами. Однако ко времени жизни Дзиэна безотказный прежде механизм доминирования Фудзивара уже в значительной степени утратил свою действенность. Он был серьезно подорван в кон-Ч* XI в., когда править страной стали не императоры, находившиеся на троне, а императоры бывшие, отрекшиеся от престола
и принявшие монашеский постриг (так называемая система инсэй — правление императоров-монахов, см. о ней [Хёрст, 1976]). Создавая параллельный двор, экс-императоры превращали прежние структуры политической власти в фикцию. И хотя Фудзивара продолжали удерживать за собой формально наиболее значимые посты регентов и канцлеров, они держали в руках пустоту.
Но еще более серьезная угроза дому Фудзивара возникла вместе с усилением военного сословия самураев. Братья Дзиэна мало что могли противопоставить дружинам Тайра Киёмори (1118—1181), являвшегося одно время фактически военным диктатором. В 1179 г. Киёмори поместил экс-императора Госира-кава (1155—1158) под домашний арест и возвел на трон трехлетнего императора Антоку — сына императора Такакура от приемной дочери Киёмори. Таким образом, Антоку приходился внуком Киёмори по материнской линии, т. е. Киёмори прибег к привычной модели власти, сформировавшейся по крайней мере еще в период доминирования Сога (VI—VII вв.) с той лишь разницей, что место Фудзивара как поставщика императорских невест занял теперь сам Тайра Киёмори. Регентом же при малолетнем императоре стал Коноэ Мотомити (1160—1233)-— младший внук отца Дзиэна.
После смерти отца — регента Тадамити — последовавшей в 1164 г., десятилетний Дзиэн остался сиротой. Его отправили в буддийский монастырь Энрякудзи на горе Хиэй, принадлежавший школе Тэндай, основанной Сайте. В то время воспитание младших сыновей аристократических семей в монастырях было делом обычным. Наставником Дзиэна стал Какукай (1134— 1181), седьмой сын экс-императора Тоба (1107—1123).
После войны 1181 —1185 гг., в которой дружины дома Ми-намото нанесли Тайра решающее поражение в битве при Дан-ноура, уединенной жизни Дзиэна был положен конец. Его брата Кудзё Канэдзанэ (1149—1207) Минамото Ёритомо (1147—1199) в 1186 г. назначил регентом вместо Коноэ Мотомити. Вместе с приходом к власти Канэдзанэ Дзиэн получил пост настоятеля в нескольких крупнейших буддийских храмах и его пригласили во дворец избавившегося от опеки Тайра экс-императора Г'осиракава для вознесения молитв о его здоровье. Смерть Госиракава (1192 г.) еще более упрочила положение Ёритомо и дома Кудзё. Ёритомо пр,инял титул верховного военачальника (сегуна), а на трон взошел Готоба (1183—1198), жена которого была дочерью Канэдзанэ. Сам Дзиэн получил две высшие должности, на которые только мог претендовать монах: он стал главой школы Тэндай (дзасу) и «духовником» императора («годзисо»—«монах-охранитель императора»).
Казалось, что дом Кудзё занял вполне прочное положение, и дочь Канздзанэ станет матерью будущего императора. Но Ёритомо рассудил, что матерью императора должна стать дочь Минамото Мититака. В 1196 г. Канэдзанэ заставили оставить 188
должность регента. Его дочь тоже была вынуждена покинуть двор, а Дзиэн вернулся к уединенной жизни в горах.
Между тем намерения Ёритомо осуществлять непосредственный контроль над императорским домом потерпели провал. В 1198 г. Готоба отрекся от престола, считая, что положение экс-императора и главы императорского дома избавит его от опеки Минамото и даст возможность для проведения более независимой политики, чем та, которую осуществляли его недавние предшественники на императорском троне. Ёритомо, обосновавшийся в военной ставке, расположенной в Камакура, был взбешен случившимся и хотел даже привести в движение свои дружины, но его планы так и остались неосуществленными. Он умер в 1199 г.
Экс-император Готоба вновь возвысил дом Кудзё: Дзиэна стали приглашать для проведения буддийских церемоний и возвратили на должность главы Тэндай. Увлеченность Готоба поэзией и его давнее знакомство с Дзиэном сыграли, вероятно, свою роль и при составлении престижной поэтической антологии «Синкокинвакасю» («Новое собрание старых и новых песен», 1205 г.), куда вошло 90 произведений Дзиэна. Большее представительство в антологии имел только знаменитый поэт Сайге (1118—1190). Племянник Дзиэна и сын Канэдзанэ — Кудзё Ёсицунэ— сменил Мотомити на посту регента. Словом, в эти годы дому Кудзё удалось, казалось, вернуть себе все привилегии, которыми он обладал при регентстве Канэдзанэ.
Однако в ту пору межвременья весь строй жизни потерял прочность и основу. Готоба маневрировал между различными группировками, приближая одних и подвергая опале других. В 1206 г. неожиданно умер Кудзё Ёсицунэ, которому не было еще и сорока лет. Однако этого оказалось вполне достаточно, чтобы вновь круто изменить судьбу всего рода Кудзё. Готоба назначил регентом Коноэ Иэдзанэ. Его регентство длилось 14 лет, в течение которых надежды Кудзё вновь сменялись отчаянием. В 1211 г. дочь Кудзё Ёсицунэ стала императрицей. Сам Дзиэн в 1212 и 1213 гг. дважды получал должность главы Тэндай, хотя отношения его с Готоба уже не достигали прежней степени доверительности. Возможно, потому что экс-император все силы направлял для ограничения влияния военной ставки (бакуфу), в то время как члены дома Кудзё поддерживали с военными тесные связи, включая матримониальные.
1221 г. принес дому Кудзё новый успех: внук Кудзё Ёсицунэ взошел на трон под именем Тюке, а Кудзё Митиэ (1193—1252) был назначен регентом престолонаследника, рожденного дочерью Ёсицунэ. Если учесть к тому же, что двухлетний сын Митиэ — Ерицунэ — стал преемником убитого сегуна Минамото Санэтомо, то следует признать: дому Кудзё удалось захватить ключевые посты в высшем слое бюрократии. Сам Дзиэн отводил Ерицунэ особое место — согласно его планам, он должен был с*гать не только сегуном, но и регентом.
Таким образом, Кудзё были заинтересованы в самом существовании института сёгуната, ибо он открывал перед ними возможности даже большие, чем обладал ранее дом Фудзивара: господство Фудзивара зиждилось почти исключительно на использовании генеалогических потенций, заключенных в структуре япо-нского общества, не будучи подкреплено, как оказалось, должной военной силой.
Чтобы осуществились планы Дзиэна, нужно было заручиться поддержкой Готоба. Однако его намерения внушали самые серьезные опасения, поскольку он пытался ликвидировать сё-гунат, который представлял собой параллельный центр власти, в серьезнейшей степени ограничивающий самостоятельность правящего дома. В этой чрезвычайно сложной и неустойчивой ситуации Дзиэн взялся за кисть, чтобы изложить свое понимание хода японской истории, приведшего к нынешнему драматическому положению.
Дзиэн не был историком, если понимать под этим словом объективного наблюдателя. Его вовлеченность в события была слишком велика для беспристрастного повествователя, хотя По-либий, считавший наиболее желательным, чтобы историю писали непосредственные участники событий — политические деятели,— указал бы на Дзиэна как на фигуру, вполне достойную звания историка. Впрочем, слабое развитие гражданских отношений и неравномерность распространения письменной культуры создавали ситуацию, при которой «историком» мог быть только представитель правящего сословия.
История не была основным ремеслом Дзиэна. Но тем не менее он заслуживает звания историка, ибо в своем произведении, названном им «Гукансё» («Заметки глупца»), ему удалось создать вполне оригинальную концепцию исторического развития Японии, понимаемого им прежде всего как преемственность различных форм правления.
Историк виден и в методах работы Дзиэна. В отличие от автора «Окагами» Дзиэн не скрывается за фиктивными свидетелями события, а открыто признает, что существуют источники информации, которые обладают неравноценной степенью достоверности, и даже предлагает сверять различные отчеты о событиях, чтобы можно было установить истину. Если источник информации не общеизвестен, Дзиэн указывает его. Различает он свидетельства письменные и устные. Разумеется, начатки дифференцированного подхода к истории ни в коей мере не образуют сколько-нибудь последовательной методологии, но тем не менее заслуги Дзиэна перед исторической мыслью Японии следует признать весьма весомыми, ибо он — первый мыслитель, которому удалось до некоторой степени избавиться от пут источника. Освобождение это во многом связано с новым пониманием аудитории произведения.
Обычно полагают, что в отличие от большинства современных авторов, не знающих своего потенциального читателя в
лицо, труд Дзиэна предназначался для людей, хорошо ему знакомых: императора Готоба и его ближайшего окружения. Считается также, что Дзиэн поставил своей целью убедить императора в благотворности сотрудничества между двором и сё-гунатом при организующем посредстве дома Кудзё [Браун и Исида, 1979, с. 418].
Однако утверждение о конкретном адресате «Гукансё» справедливо лишь до некоторой степени. Дело в том, что Дзиэн писал не по-китайски, как то более пристало для докладной записки, подаваемой императору и рассчитанной на прочтение узким слоем придворных, знакомых с китайской грамотой. Дзиэн, прекрасно владевший и китайским, умышленно обратился к языку японскому. Он утверждал, что исконно японские слова «составляют суть языка Ямато. Всякий знает «х значение. Даже людям низким и работникам многое понятно в предложениях, записанных на родном языке. Если бы я счел эти слова странными, я был бы принужден писать исключительно с помощью иероглифов» [Гукансё, 1967, с. 127]. «Я писал по-японски, имея целью донести понимание принципов истории до людей невежественных и неученых» (там же, с. 322; все ссылки даются по вышеуказанному изданию).
Таким образом, Дзиэн рассчитывал на аудиторию намного более широкую, чем это принято считать. Добровольная самоизоляция Японии в период Хэйан, обострившееся внимание к национальным формам культуры позволили японскому литературному языку, на формирование которого вэньянь безусловно оказал колоссальное влияние, вторгаться в различные области абстрактной мыслительной культуры. Дзиэн был должен оправдывать свой выбор японского языка в качестве средства письменной коммуникации. Но его развитие уже прошло период младенчества. Сам Дзиэн признавался: «Когда я хочу сказать что-нибудь, то вижу, что японские слова, наполненные смыслом, позволяют ясно выразиться относительно обстоятельств в то или иное время» (с. 322).
Новая аудитория предполагала и новые способы подачи материала. Поскольку основные источники, которыми пользовался Дзиэн, были написаны по-китайски, он был должен осуществить по меньшей мере операцию перевода, т. е. парафраз оригинала. Эта операция до определенной степени «разрушает» оригинальный текст, частично теряющий свое внутреннее единство, что создает возможность для более свободного обращения с его составляющими. Подобный прием знаком уже авторам «Эйга-моногатари» и «Окагами», но именно Дзиэн применяет его с наибольшим размахом, последовательностью и осознанием воздействия на аудиторию. Повествование Дзиэна составлено Из ^пересказа определенных пассажей из различных произведений предшествующей исторической традиции. Он свободно переходит из одного периода в другой, отстоящий от него на столетия, уснащая рассказ обширными рассуждениями, т. е.

|
| II |
конструирует текст, не следуя за хронологической последовательностью событий, а подчиняя их внутренней логике повествования,— достижение, унаследованное им от правил построения текста художественной прозы. Как заметил X. Р. Олкер, «искусство изложения, как и соответствующее искусство восприятия рассказа, требует, чтобы мы были в состоянии извлекать конфигурации из последовательности» [Олкер, 1987, с. 437].
Поскольку интерпретационный подход к истории был достаточно непривычен, Дзиэн вынужден обосновывать его. Люди древности, отмечает он, понимали суть дела, лишь только заслышав, о чем идет речь. Писали же они мало (с. 327). Поэтому без должной расшифровки их мысли и дела для людей нынешних, утерявших замечательные свойства предшественников, остаются непонятными. Отсюда и возникает необходимость обращения к толкованию хода истории. Новаторский метод Дзиэ-на закреплен и в самом названии его произведения — «Заметки глупца». Иероглиф «сё», который мы условно переводим как «заметки», в более ранних произведениях исторической мысли не встречается.
Еще более важно следующее: название произведения являет собой характеристику не объекта описания, а его субъекта, что отражает относительно независимую позицию автора. Название «Окагами» («Великое зерцало») тоже представляет собой субъект описания, но оно имеет внеличностный характер и предполагает тождество объекта с субъектом.
Как и в более ранних произведениях, описывающих исторические события, одним из основных методов анализа остается у Дзиэна метод генеалогический, прямо вытекающий из специфики социального функционирования японского мифа. Дзиэн вполне сознавал это свойство в качестве особенности исторического развития Японии. Он отмечал, что если в Китае правителем становится человек, обладающий соответствующими способностями, то в Японии, где правящая династия не знала перерыва, император мог происходить только из правящего рода. Поэтому свержение династии было для него делом немыслимым даже во времена всеобщего упадка, хотя он и признавал возможность смены императора неправедного. Положение же династии ни в коем случае поколеблено быть не могло (с. 347— 348).
Метод авторов «Эйга-моногатари» и «Окагами» в определенной степени также можно определить как генеалогический. Но хронологические рамки работы Дзиэна намного шире. Если «Окагами» приступает к последовательному изложению событий, начиная с правления Монтоку, то «Гукансё» имеет дело со всеми правителями Японии. Это и неудивительно, ибо интерпретационные задачи, которые ставил перед собой Дзиэн, не знали примера в прошлом. На первый взгляд может показаться, что «Кодзики» и «Нихон секи» не уступают «Гукансё» по размаху
рассмотрения исторического материала — ведь они ведут повествование не только об «императорах», но и о деяних богов. Не следует, однако, забывать: «Кодзики» и «Нихон секи» ограничиваются изложением исключительно прошлых событий, а Дзиэн подвергает рассмотрению и будущее, понимаемое им как будущность системы правления.
Несопоставим и уровень теоретического рассмотрения фактов. Представления составителей «Кодзики» и «Нихон секи» можно лишь реконструировать на основе сообщаемых ими сведений, а произведение Дзиэна являет собой развернутую теорию исторического процесса, высказываемую автором вполне осознанно. Если хронологические рамки сочинения достаточно широки — во всяком случае, они превосходят временной охват всех произведений его предшественников, то пространство «Гукансё», напротив, чрезвычайно ограниченно. Оно определяется постоянным пребыванием императора в административно-сакральном центре страны — столице, где и происходят все события, интересующие Дзиэна. Таким образом, пространство истории еще в большей степени, чем время, можно определить как категорию социально детерминированную. Но если в отношении времени эта концепция вызывает к жизни амплитуду значительного размаха, то пространство «Гукансё» близится в пределе к точке, где находится император.
Существуют общества, в жизни которых освоение обширного пространства играет чрезвычайно большую роль. Почти карикатурный пример представляет собой Римская империя, где пространство, ввиду непрекращающейся экспансии, мыслилось постоянно расширяющимся [Кнабе, 1985]. Записи японских хроник, повествующие о периоде становления японского государства, сопровождавшегося военными походами против «варваров», вполне соответствуют концепции «расширяющегося пространства». Однако с падением завоевательной активности внимание аристократов все более замыкается на столице. Это яв>-ление хорошо просматривается не только в сочинениях исторических, но также в поэзии и художественной прозе. Восприятие японцами пространства в его историческом развитии (от первых памятников письменности и до упадка исторической роли аристократов) следует определить как постоянно сужающееся.
Книгу Дзиэна можно представить как состоящую из двух частей. В первой из них, в соответствии с установленной Дзиэ-ном процедурой (имеющей немалые соответствия с «Окагами»), правления императоров описываются по следующей схеме: тронные и детские имена, продолжительность правления и жизни, год восшествия на престол (и отречения, если таковое имело место), время назначения престолонаследником, год прохождения церемонии посвящения во взрослые, данные о родителях и» основных деятелях эпохи, хронология девизов правления, чрезвычайно краткий перечень главнейших событий.
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 405; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!