
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Социолог как моралист
|
|
|
|
Н. Кауппи
Врезка
До 90-х гг. Бурдье держался поодаль от политики, но с 1995 г. он активно защищает обездоленные группы французского общества, тем самым присоединившись к французской традиции политической активности интеллектуалов. В 1995 г. на Лионском вокзале в Париже Бурдье стоял позади цепочки безработных железнодорожников. В том же году группа интеллектуалов, возглавляемая Бурдье, подписала призыв к солидарности с Декабрьским Движением, созданным, чтобы защитить работников коммунальных служб, которым грозили массовые увольнения и сокращение финансирования. На следующий год он атаковал СМИ в своей маленькой книжке «О телевидении». Свою последующую работу «Акты сопротивления» он посвятил разоблачению мифа о триумфе неолиберальной экономической доктрины. Иконоборческий дух Бурдье уходит корнями в его же теорию, где опасность и необходимость безотлагательных действий ока-
зываются сильнее здравого смысла и осмотрительности, где рисуется апокалиптическая картина неизбывного гнета, который является необходимым условием существования интеллектуалов как героев и освободителей. Однако в противоположность таким фигурам, как Золя и Сартр, Бурдье в качестве профессора College de France явственно совмещает научную легитимность с более традиционной ролью пророка, вмешивающегося в политику. Многие из его политических выступлений имеют отношение к различным социальным проблемам, в которых он компетентен как социолог. Но в отличие от интеллектуалов типа Пьера Видаля-Наке, которые специализируются на конкретных вопросах и пунктуально выступают по их поводу, Бурдье ближе к сартровс-кому типу «интеллектуала-на-все-руки». Как и его предшественники — Золя, Сартр и Фуко, — Бурдье смешивает в своем дискурсе популистские и интеллектуальные воззрения на политику. С одной стороны, Бурдье, выступая как представитель элиты, клеймит серость политики, масс-медиа и своих оппонентов-интеллектуалов; с другой стороны, он считает поли-
тируя» природу. Таким образом, священник А. Смолл и публицист У. Сам-нер оказались по разные стороны баррикады.
А. Смолл (1854—1926) происходил из семьи священника, поэтому получил основательное образование в области теологии. Его жизненный уклад и характер вполне способствовали разделяемым им христианским ценностям братской любви. Видимо, он ощущал себя в жизни скорее подвижником, нежели теоретиком или эмпириком. Научную кафедру он превращал в трибуну, с которой проповедовал окрашенное в религиозные тона социологическое учение о человеческих интересах.
Он не создал оригинальной и плодотворной теории. По всей видимости, А. Смолл к этому и не стремился. Его притягивала практическая деятельность. Социологию он ценил скорее как инструмент улучшения общества и оптимальную основу для развития социального планирования. А. Смолл считал, что социология должна давать практические рекомендации для проведения социальных реформ, которые призваны улучшать деятельность социальных институтов.
Жизнь современного идола интеллектуальной социологии Пьера Бурдье (1930—2002) — это попытка соединить карьеру ученого-социолога и интеллектуала-практика. В мае 1968 г. Бурдье поддержал студентов и с тех пор постоянно критиковал то европейский истеблишмент и политические власти, то европейских интеллектуалов, возомнивших себя небожителями. На президентских выборах 1981 г. он поддержал комического актера Колюша, который позиционировал себя как народный противовес партиям истеблишмента и таким кандидатам, как Франсуа Миттеран и Валери Жискар д'Эс-тен. В 80-е гг. Бурдье был близок к независимым левым в лице Объединенной социалистической партии Мишеля Рокара. В середине 90-х гг. Бурдье прослыл пламенным защитником безработных. Он выходил вместе с ними на парижские улицы, а в прессе, активно разоблачая экономические докт-
з мошенниками, сидящими на шее у про-) народа. Подобно Золя, публично атако-1ему Феликса Фора, Бурдье бросил вызов у Титмейеру, главе Центрального банка
1ЭНИИ.
гегия Бурдье повторяет выбор, сделанный 1я, и Сартром: интеллектуалу никак не сле-участвовать в политической деятельности з демократические или партийные полити-
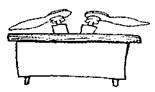
че механизмы. Левые политики именуют ье противником демократии, а правые уп-от в том, что Бурдье воскрешает традицию 1лектуала-бунтаря. Подобно Сартру, Бур-читает людей, стоящих у власти, мерзав-(«salauds»). В конце 1998 г. дело шло к
тому, что Бурдье мог возглавить протестный список на предстоящих (июньских 1999 года) выборах в Европарламент, как это сделали Бер-нар-Анри Леви и Леон Шварценберг в 1994 г. Особенно всполошились социалисты и коммунисты. За счет этой все возраставшей публичности Бурдье превратился во «французского интеллектуала номер один». Неудивительно, что пресса уже пишет о «деле Бурдье» по аналогии с делом Дрейфуса.
Как и Сартр, Бурдье занялся издательской деятельностью: в 1965 г. он основал книжную серию «Здравый смысл» («Le sens commun») в издательстве «Editions de Minuit», в 1975 г. — журнал по социальным наукам «Actes de la recherche en sciences sociales» (где стал главным редактором), а затем — общеевропейское книжное обозрение «Liber», выходящее на нескольких европейских языках. В 1996 г. Бурдье создал на базе своей кафедры в College de France новое издательское предприятие «Liber / Raisons d'agir». В серии «Raisons d'agir» («Поводы к действию») он выпускает 30-франковые брошюры, посвя-
рины неолиберализма, разрабатывал стратегию сопротивления господству монополий и глобализации.
П. Бурдье полагал, что социология — и в теории, и на практике — должна защищать демократические идеалы, а еще более конкретно — отстаивать республиканские ценности. Основная задача социолога — научное исследование феномена социального неравенства, а задача интеллектуала — символическая борьба за справедливость и равенство. Цель предложенной Бурдье социологической программы — построение справедливого, основанного на республиканских ценностях общества. Подобно Платону, Бурдье увязывает общечеловеческий этический проект — создание справедливого общества — с проектом научным, т.е. с поиском истины. Социолог не может стоять вне определенной системы ценностей. От его нравственной позиции зависит то, каких научных успехов он добьется и какое влияние на общество сможет оказать. Сам Бурдье занимал активную жизненную позицию, будучи ученым, политическим активистом, издателем и редактором. Исследователь его творчества Н. Кауппи так написал о нем:
«В середине 90-х Бурдье стал пламенным защитником безработных и вышел вместе с ними на парижские улицы; также он принялся разоблачать экономические доктрины неолиберализма; короче, он сделался сартровским интеллектуалом в полном смысле этого термина. Большинство наблюдателей сочло, что этот прыжок из библиотеки на улицу разорвал биографию Бурдье надвое: на карьеру ученого-социолога и на жизнь активиста-общественника. Стержнем общественной деятельности Бурдье стали моральный пафос и идеалы, отсутствующие, как принято считать, в его научных трудах. И верно: согласно его теории, сопротивляясь власти господствующих классов, мы скорее воспроизводим, чем подрываем это господство — то есть Бурдье-теоретик смотрит на социальную реальность весьма пессимистично. Напротив, в своей деятельности интеллектуала-практика Бурдье наглядно доказал эффек-
щенные таким злободневным проблемам, как коммунальные службы, масс-медиа и нашествие неолибералов. Также Бурдье стал одним из основателей Парламента интеллектуалов. В отличие от Золя и Сартра, в лице Бурдье мифическая фигура интеллектуала-одиночки трансформировалась в фигуру интеллектуала-менеджера, который правит не только научной империей (College de France, а также Ecole des hautes Otudes en sciences sociales — Высшая школа социальных исследований), но еще и издательской. Сегодня это целая интеллектуальная сеть, включающая в себя и такие популярные издания, как еженедельный телегид «TOIOrama», молодежное приложение к газете «Le Monde» — «Les inrockuptibles», а также влиятельный еженедельник «Le Monde diplomatique», выходящий на английском, испанском и других европейских языках. В эту сеть входит и такая общественная организация, как АТТАС («Association pour la taxation des tran-sactions financieres pour I'aide aux citoyens» — «Ассоциа-
ция за налогообложение финансовых операций в помощь гражданам»), объединяющая журналистов «Le Monde diplomatique», которые добиваются принятия «тобеновского» налога на перемещения капитала. «Сеть» Бурдье не ограничивается пределами Франции. В масштабе Европы Бурдье открыто выступает как вождь интеллектуалов, которые, как все яснее становится в наши дни, образуют единое международное и междисциплинарное сообщество. Символическая власть больше не сводится к личной харизме; теперь она скорее означает способность мобилизовать индивидов, превратить их в гибкую, расширяющуюся сеть агентов, основными узлами которой являются институты, ассоциации и издания, пропагандирующие близкое Бурдье мировоззрение.
Источник: Кауппи Н. Социолог как моралист: «практика теории» у Пьера Бурдье и французская интеллектуальная традиция // http:// scripts.online.ru/magazine/nlo/n45/kauppi.htm
тивность своих стратегий сопротивления господству и глобализации. Однако это отделение созерцания от действия, теории — от практики, критики власти интеллектуалов — от пользования ею в жизни слишком безупречно-красиво, чтобы быть правдой. Вместо того чтобы акцентировать полярность этих противоположностей, я хотел бы высказать предположение, что два Бурдье — молодой и старый — имеют одно связующее звено, и это звено — этика. Этика всегда присутствовала в работах Бурдье при всей их научности. Республиканские ценности позволили Бурдье перейти от теории практики к практике теории, обнажив при этом противоречия и амбивалентность как его научной работы, так и его деятельности в качестве политического активиста. Без этикиЧео-рия не может стать практикой. Без этики научная легитимность не может быть использована в качестве символической власти»7.
По мнению Н. Кауппи, и для Франции, и для Европы, и для США Бурдье сегодня — не просто ученый, добившийся больших успехов, но фигура большего масштаба. Во французской прессе он предстает как опасный человек, один из тех, кому хватает духа взять огонь на себя, когда встает вопрос о власти интеллектуалов. В этом смысле публичный имидж Бурдье во Франции воспроизводит черты французского героического интеллектуала, романтика, в одиночку противостоящего коллективным предрассудкам и иллюзиям. Он один достаточно храбр, чтобы пролить свет на реальное положение дел. Он совмещает в себе радикального политического активиста и ученого, развенчивающего мифы8.
КАК СЕГОДНЯ ПОНИМАТЬ КЛАССИКУ
Для будущего социолога основательное знакомство с историей его науки — вещь обязательная и безусловная. Считаться грамотным человеком, квалифицированным социологом, не зная базовых социологических идей, скажем Платона, Вебера или Дюркгейма, невозможно. Вас просто не поймут представители других наук, а возможно, и посмеются над незнайкой.
Однако исторические знания — вовсе не самоцель. Блистать своей эрудицией вам не обязательно. Большинство выпускников социологических факультетов трудоустраиваются не в академической, а в прикладной и практической социологии. Глубокие исторические познания требуются от специалиста в области истории социологии, а не от любого, пусть и академического, социолога.
Но если фундаментальные сведения из истории своей науки вам не всегда нужны, то понимание логики развития научной мысли обязательно. Еще более настоятельным является современное прочтение старых текстов. Для чего нам нужно знать учение Платона о формах правления или его концепцию социальных классов? Разумеется, не для того чтобы поражать компанию сверстников. Они нам нужны для того, чтобы глубже, правильнее и полнее понимать нашу современность. Попробуем оценить идеи классиков социологии с точки зрения современника.
шли Н. Социолог как моралист: «практика теории» у Пьера Бурдье и французская интеллекту-
ная традиция // http://scripts.online.ru/magazine/nIo/n45/kauppi.htm
гже.
Как уже было сказано, Платона называют создателем «общей социологии». Согласно ему, общество, пребывающее в хаосе, начинает стабилизироваться, как только в нем появляются классы. А они появляются после возникновения общественного разделения труда, так как только благодаря ему каждый гражданин занят своим делом. Мы помним, что великий философ выделял в социальной структуре античного общества три класса: 1) высший — мудрецы, из которых формируют правительство; 2) средний — военно-промышленный комплекс; 3) низший — ремесленники и крестьяне. Обратим внимание на два обстоятельства. Во-первых, в правительство Платон вводил только мудрецов и требовал от них не только высшего философского образования, но также: а) постоянной переподготовки и б) свободы от частной собственности. Актуально это сегодня или нет? Конечно, актуально, хотя на каждом шагу подобное требование нарушается. Коррупция в высших эшелонах власти сегодня, как никогда, велика. В нынешнем российском, впрочем как в ленинском и брежневском правительствах можно найти значительную долю лиц с высшим образованием, однако далеко не всех можно назвать мудрецами, тем более проходящими постоянную переквалификацию. Во-вторых, классовая дифференциация относится у Платона только к свободным гражданам. Рабы в нее не входят и классом не называются. Если попытаться дать им какое-то обозначение, то не чем иным, как кастой неприкасаемых (по примеру Индии) или андерклассом (на европейский манер) их не назовешь. Рабы стоят ниже всех. Используя тюремный лексикон, это слой социально «опущенных». В античном обществе они испытывали не только политическое бесправие, экономические лишения, социальное неравенство, но и нравственное надругательство.
В нынешних теориях социальной стратификации учитывается буквально все население. Это первое различие между древней и современной демократиями: первая была демократией для меньшинства, вторая — для всех. Вторая важная черта, которая также должна учитываться социологом: институт рабства, возникший в глубокой древности, пережил целые тысячелетия, десятки политических режимов и эпох и сохранил свою жизнеспособность. В малоцивилизованных, а иногда и откровенно террористических странах, в частности в Чечне, по данным открытой печати, рабство в своих самых отвратительных формах существует по сей день. Там рабы бесправны, они неприкасаемы и подвергаются постоянному унижению. В цивилизованных странах, в том числе в Западной Европе, рабство сохранилось в косвенных (скрытых, латентных) и пережиточных формах. Одной из них является, по общему мнению, проституция.
Обратим внимание и на другие положения теории Платона. Они весьма поучительны для нас. Если в современном обществе высший класс всегда наделен привилегиями и преимуществами по сравнению с двумя другими слоями населения, то Платон не разрешал знати иметь никаких привилегий. Их источником всегда служат либо злоупотребление должностными полномочиями, либо владение частной собственностью. Платон прекрасно осознавал все негативные последствия, проистекающие из того, что высший класс владеет собственностью. Он рассуждал так: добрался до высот власти — откажись от собственности; твои преимущества над другими — не мешок денег или служебный автомобиль, а высшее образование, знание философии, этикета, музыки и искусства. Знания — вот чем должны владеть правители в
государстве Платона. Причем к управлению следовало допускать людей не моложе 50 лет.
Сегодня соответствующее возрастное ограничение для президента — 35 лет. Так как акселерация — это завоевание современного общества, следовательно, возрастной ценз понижен. В древности продолжительность жизни была невысокой, в 50 лет человек считался преклонного возраста, ему оставалось жить не так много. Допуск к власти что называется на пороге смерти — возможно и жесткая, но выгодная для общества мера: правитель не успевал много наворовать, а по наследству при демократии власть не передавалась.
Преклонный возраст правителей предполагал незначительный срок пребывания в должности и скорую ротацию кадров. Институт обновления управленческих кадров требовал подготовки многочисленного резерва на выдвижение и соответствующих образовательных учреждений. Мера хотя и затратная, но себя окупающая: резервисты знали, что вскоре продвинутся и они. Отсутствие у них значительной собственности служило гарантией личной безопасности и общественного спокойствия. Известно, что собственность, доставшаяся как бы несправедливо, только в силу служебного положения, вызывает у окружающих раздражение и агрессию. К тому же это лакомый кусок, привлекающий к управлению всякого рода проходимцев, искателей случайного счастья. Покушения на чиновников, ставшие сегодня массовым явлением, доказывают, что собственность, нажитая нечестным путем, опасна для жизни.
Правители, преуспевающие за казенный счет, служат для подданных примером негативного поведения и дискредитируют само государство. Плутократы во все времена вызывали не только зависть, но отчуждение и гнев. Наличие подобной прослойки — свидетельство того, что «рыба гниет с головы». Социология доказала, что элита — эталон образа жизни и поведения для тех, кто находится на нижних ступеньках социальной пирамиды. На нее равняются, ей подражают, в нее стремятся попасть. Если в элиту путь облегчен, то в когорту выдвиженцев обязательно проникнет множество случайных людей. Если путь в нее усложнен и требует приложения огромного труда, знаний и квалификации, то престиж управленческой элиты повышается, а барьеры на пути к ней становятся мощным фильтром, отсеивающим нежелательные для общества элементы. Если народ ориентируется на образ жизни элиты, то она должна демонстрировать нравственный образ жизни. Сформировать его призваны такие дисциплины (и в этом Платон в очередной раз был прав), которые нельзя заподозрить в меркантильности и ориентации на выгоду, прибыль и т.п. К ним он относил музыку, философию и искусство — главные инструменты воспитания мудрых и высоконравственных правителей.
Современные обследования и наблюдения показывают, что политические деятели и народные депутаты в России всячески стремятся приобщиться к прекрасному. Они посещают премьеры, театральные постановки, новые выставки, участвуют в создании и открытии благотворительных фондов. Но делается все это с обязательным участием прессы и телевидения. Подобное поведение можно назвать демонстративным, искреннего стремления приобщиться к прекрасному здесь мало. Но и демонстративное поведение выполняет позитивную функцию, поскольку вынуждает политиков помимо их желания уделять хоть какое-то внимание культуре. Забота о личном прести-
же и политическом облике заставляет власть предержащих приносить пользу всему населению.
Немало интересного и поучительного мы найдем в идеях Аристотеля. Он считал, что основу социального порядка составляет классовая дифференциация: 1) высший класс; 2) средний класс; 3) низший класс. Однако становым хребтом социального порядка у него выступали не классы вообще, а именно средний класс — вог кто стабилизирует общество. От него расходятся два отклоняющихся луча — богатая плутократия и пролетариат. Оба они имеют свои недостатки: плутократия приворовывает от власти, а пролетарии, не имеющие собственности и составляющие социальное дно, вечно всем недовольны и готовы к бунту. Аристотель считал, что управление страной не обязательно сосредоточивать в руках одного класса. Оно должно опираться на социальные институты и механизмы. Управление государством считается оптимальным, если выполняются три условия:
1) масса бедняков не отстранена от участия в управлении;
2) эгоистические интересы богатых ограничены;
3) средний класс многочисленнее двух других классов.Рассмотрим, насколько современны положения Аристотеля. Что такое
численное перевешивание среднего класса? Ромбовидная форма социальной стратификации (классового расслоения) в современном цивилизованном обществе выглядит так: богатых — 5—6%, бедных —14—15, средний класс — 80%. Только при такой форме социальной стратификации можно достичь стабильности общества. Самый многочисленный средний класс выполняет функцию стабилизатора, соединяющего и отдаляющего друг от друга два социальных полюса — богатых, в руках которых концентрируется наибольшая собственность и привилегии и которым завидуют другие классы, и бедных, которые ничем не обладают и которым никто не завидует, но которые завидуют всем. При наличии многочисленного среднего класса оба полюса разведены по разные стороны, социальная дистанция между ними велика, они как бы не соприкасаются, вероятность социальной стабильности возрастает. Такова современная структура постиндустриального общества.
Если у вас большие доходы, то после удовлетворения своих жизненных потребностей вы можете накопить достаточную сумму денег, чтобы превратить их в капитал или богатство, а средний класс не может заниматься накоплением — он все проедает или откладывает небольшой запас денег. Только высший класс превращает текущую сумму денег в богатство, но доходы существуют во всех классах.
Положение Аристотеля о том, что бедные не должны быть отстранены от участия в управлении, очень актуально. Его можно принять в качестве форму 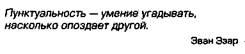 лы эффективной демократии. Государство основано только на всеобщем участии граждан в политической жизни. Например, в Древней Греции политика не концентрировалась в закрытой коррумпированной группе (политической элите), а осуществлялась «на площади». Каждого грека обязывали участвовать в политической жизни и публичных диспутах. Все вопросы решались не за кулисами, а прилюдно, и каждый был обязан выступить. Более того, за участие в общественной жизни платили, и это был хороший приработок для бедняков, они превращались в
лы эффективной демократии. Государство основано только на всеобщем участии граждан в политической жизни. Например, в Древней Греции политика не концентрировалась в закрытой коррумпированной группе (политической элите), а осуществлялась «на площади». Каждого грека обязывали участвовать в политической жизни и публичных диспутах. Все вопросы решались не за кулисами, а прилюдно, и каждый был обязан выступить. Более того, за участие в общественной жизни платили, и это был хороший приработок для бедняков, они превращались в
профессиональных трибунов, демагогов. Благодаря всеобщему участию в политической жизни повышалась грамотность населения. Не надо было проводить мониторинги общественного мнения, референдумы и пр. Никто не мог фальсифицировать ваш голос. У народа создавались иллюзия неотчужденности от власти, ощущение, что это его власть и его правительство, так как он влияет на политический выбор страны и принимаемые властями решения. Возникала иллюзия того, что, каковы бы ни были разногласия между классами, они могут жить в мире. На всеобщем привлечении людей к управлению строится современная концепция партисипативного менеджмента.
С высшим классом связано немало проблем: ограничить эгоистические интересы людей, которым все дозволено, не может никто, их никто не контролирует сверху. Их могут обуздать только те, кто находится внизу — общественность, т.е. средний класс. Если средний класс наделен какими-то реальными механизмами влияния на власть, то общество будет стабильным и демократическим. Следовательно, второй принцип Аристотеля тесно связан с двумя другими. У Платона же все ограничивалось приобщением будущих правителей к изящным искусствам и философии — не очень реалистичное требование в современных условиях. Возможно, Аристотель догадывался об утопичности принципов Платона, поскольку возлагал надежды не на отдельных правителей, а на мощь среднего класса, у которого самая высокая заинтересованность и мотивация в сохранении того общества, где ему живется хорошо, где он самостоятельно способен добиться продвижения, улучшения своей карьеры, повышения материального благополучия.
Улучшений можно добиться двумя способами: выравниванием жизненных стартов в начале и уравниванием социальных результатов в конце пути. Платон ограничивал верхний уровень оплаты труда и вознаграждений, т.е. ставил планку в конце или на вершине карьеры. Аристотель запретил верхние ограничители. Правда, в учениях и Платона, и Аристотеля, вовсе не желавших уничтожения рабовладельческого общества, сохранялось неравенство жизненных шансов: рабы и свободные граждане имели отнюдь не одинаковые возможности достичь жизненного благополучия. Только рыночное общество, наступившее с приходом в Европу капитализма, и демократическая система дают людям равные шансы на старте и на финише. Средний класс заинтересован в том, чтобы построить свою жизненную карьеру, не свергая существующий строй. Меньше всего он полагается на государство, стремясь всего добиться своим трудом и личным старанием. Сегодня таких людей называют self-made-man.
Плебс, особенно римский, постоянно требовал себе дополнительных льгот и пособий. Его называли социальным иждивенцем. Психологический комплекс, создаваемый хронической бедностью и постоянной нуждой, превращал социальное дно в вечно недовольных и ограниченных людей, мало верящих в собственные возможности и гарантии государства. Получается, что низший класс был недоволен всем и всеми — лично собой и правителями. Более революционно настроенной массы трудно сыскать.
Жизненные шансы богатого класса повышались благодаря родительскому наследству. Право наследования либо закреплялось только за высшим классом, либо только у него составляло экономически значимую величину.
Аристотель полагал, что, если в обществе много тех, кто не работает, но получает, то оно нестабильно. Стабильно лишь такое общество, где люди много трудятся и много получают. Это единственное «пособие», которое государство может выдать среднему классу. Если оно не помогает ему, устанавливая благоприятный правовой режим, то оно обречено постоянно либо помогать огромному числу бедняков, либо взращивать высший класс коррупционеров. Установленный Аристотелем закон не имеет временных ограничений, он вполне актуален и для современного общества, которое пренебрегло предупреждениями античного философа.
В отличие от Платона, Аристотель допускал существование частной собственности для всех классов. Для того чтобы общество оставалось стабильным, нельзя допускать коллективную собственность, учил он, надо пропагандировать частную собственность, так как на ней покоится благополучие среднего класса. При коллективной же собственности большинство людей бедны. Но и это положение было нами проигнорировано, правда, еще в советское время.
Понятие филантропии возможно только в том обществе, где нет коллективной собственности, а есть институт частной собственности. Так происходило в античности, так происходит и сейчас.
В период Средневековья единственными учеными, интересовавшимися социальными проблемами, были Августин и Фома Аквжский, которые говорили о двух видах власти: светской и религиозной — и мыслили общественное развитие и жизнь как борьбу этих двух начал.
Только с Никколо Макиавелли уже в Новое время началось настоящее возрождение учения об обществе. Его главное произведение «Государь» продолжало линию, но не логику платоновского «Государства», так как он был озабочен стабильностью общества, взаимоотношениями различных классов и законами или правилами, на основе которых люди должны строить свое поведение, но логику он предложил свою. Именно поэтому его учение можно назвать учением о поведении людей в обществе.
Как уже говорилось, он начал с того, что определил свое отношение к верхам и низам и утверждал, что правитель, заботящийся о благе других людей, должен выстраивать свою стратегию поведения в соответствии с основными принципами. Первый его принцип гласит: людьми правит честолюбие. Независимо от социального происхождения и положения мотив честолюбия свойствен всем в равной степени. После этого он задал себе вопрос: кто больше стремится к тому, чтобы получить больше благ — высший класс, который уже имеет эти блага, или те, кто не имеет?
Желающие сохранить то, что они имеют, и стремящиеся получить то, чего у них нет, рассматривают честолюбие с разных позиций. Высшие считают, что они заслуженно обладают этим благом и стараются не допустить стремящихся их приобрести к кормилам власти. Те, кто внизу, считают, что их несправедливо обделили властью, следовательно, стараются отобрать ее.
Если на чашу весов положено общественное благо и за него борются две столь противоречивые силы, то правитель не должен питать иллюзии, что он добьется классового мира уговорами, раздачей привилегий или др. Если все одинаково корыстны, то и правитель должен быть корыстным. Богатые, достигшие власти, знают, какой ценой они ее добились, и понимают, что если
на их место придут бедные, они будут ничуть не лучше, ибо от своего честолюбия они не избавятся. Но создать иллюзию временного примирения классовой борьбы можно, и это во власти правителя. Второй принцип Макиавелли: правитель не должен выполнять свои обещания. Он должен вести себя следующим образом: когда он идет к власти, он расточает обещания, заигрывает с публикой, добиваясь поддержки низов. Но как только он дошел до власти, он должен забыть о своих обещаниях и никогда к ним не возвращаться. Почему? Ведь здравый смысл нам подсказывает, что низы обидятся и будут требовать от правителя выполнения его обещаний. Они тем самым будут проецировать свою логику и упрекать правителя: мы бы так не поступили. Но они не знают, как бы они поступили, пройдя такой путь. Им никто не позволил это сделать, значит, они себя в этой ситуации еще не проверяли, а правитель мудр, и он знает, что с ними будет то же самое. Если он начинает реализовывать свои обещания, то он ставит себя в зависимость от низов. Но зависимый правитель — самый слабый, нерешительный и наиболее ограниченный в своих возможностях. Он будет постоянно заботиться об интересах масс, однако интересы государства могут им противоречить. Если бы правитель проявил свою зависимость от низов, то они ему этого никогда бы не простили, ибо больше всего они ценят в правителе его решительность, независимость и даже в какой-то степени социальную наглость. За подобные качества они будут уважать его.
С этим принципом тесно связан третий принцип Макиавелли: использовать любовь подчиненных в начале своей карьеры — правитель может заигрывать с подчиненными, расточая им похвалы, награды, обещания; но когда он достиг власти, он обязан исходить из мотива страха.
Как добиться страха и трепета подчиненных? Это четвертый принцип стратегии поведения руководителя, по Макиавелли, который гласит: позитивные стимулы расточай постепенно, а негативные санкции давай сразу и в как можно большем объеме, так как у негативных и позитивных санкций разные мотивационные зоны и реагируют на них люди по-разному. Когда правитель раздает вознаграждения, то, раздвигая временные параметры (достаточно редко награждая подчиненных), он вынуждает оценивать их. Подчиненный должен проникнуться уважением. А когда он раздает негативные санкции, то не надо, чтобы возникающие злость, раздражение, т.е. отрицательные эмоции, накапливались, ибо их накопление ведет к желанию отомстить, и у правителя появляются враги. Поэтому надо «ошарашить» подчиненных жесткой мерой, чтобы повергнуть их в трепет, но не вызвать у них желания отомстить.
С этим принципом тесно связан пятый: можно отобрать у своих подчиненных все, вплоть до жизни, но не посягать на имущество, так как здесь концентрируются все интересы индивида, это его средство к существованию.
Макиавелли рассматривает пример с восстанием Чомби начала XV в., когда лидер восстания обращается к массе: «Мы с вами встали на путь порока. Мы сожгли массу усадеб, убили тысячи людей, и если мы сейчас одумаемся и остановимся на середине, то милости нам все равно не ждать. Давайте дойдем до конца и разгромим все, ибо за большое зло иногда следует награда, а за малое — обязательно наказание». Этот принцип действует и в современной жизни: стоит кому-нибудь из наших политических или экономических лидеров присвоить себе десятки миллионов долларов — он уже не вор, он

|
человек удачливый, а вот если вы украли несколько сот долларов у себя на предприятии, то вы обязательно будете наказаны. Эта «оторопь» перед очень большим — одна из казуистик социального поведения, одна из его загадок. Почему люди робеют перед очень большим добром и очень большим злом? Макиавелли принадлежит и другое учение — о кругообороте форм правления, в котором он говорил, что у любого положительного режима власти, например демократии или аристократии, есть свой негативный двойник: у демократии — анархия, у аристократии — охлократия или плутократия (охлократия — власть плебса, плутократия — власть мошенников), и если вы задумали создать для своего общества положительный политический режим и последовательно двигаетесь по этому пути, наращивая демократические институты, то за высшей точкой развития начнется движение в обратную сторону, по принципу маятника. Следовательно, никакой политический режим на века не создается, у него есть свое время жизни.
Об идеях Макиавелли сегодня пишутся диссертации, проводятся конференции. Его считают родоначальником чуть ли не всех известных ныне политологических и отчасти социальных теорий: элиты, классов и др.
Томас Гоббс (1588—1679) разработал теорию общественного договора — именно она считается началом учения о гражданском обществе. Гоббс также продолжал линию, но не логику Платона и Аристотеля. Он высоко оценивал их идеи об обществе, но сделал одно важное замечание: в их учениях индивиды, из которых состоит общество, предстают какими-то обезличенными или асоциальными существами, атомами. Такое общество могли бы построить и муравьи или пчелы, но человек отличается от них хотя бы тем, что у него есть амбиции, он стремится к престижу, почестям. Как государство, так и общество строится, руководствуясь определенными нормами, которые сознательно должны соблюдать люди, а муравьи руководствуются инстинктами. Но, как только мы наделяем людей этими качествами, мы понимаем, что каждый в обществе будет преследовать только свою выгоду.
Следовательно, у людей нет врожденной тяги к сотрудничеству. В этом главная проблема тех, кто пытается революционизировать или реформировать общество. Каждый стремится добиться для себя больших почестей, чем для других. Человеку несвойственно от природы любить ближнего. Эти качества приобретаются огромной ценой и усилиями по принуждению. Следовательно, врожденное качество — стремление к разъединению, борьбе, конкуренции, а значит, к вражде. Естественное состояние человечества — вражда всех со всеми (первобытное общество — постоянная борьба). Можно играть на вражде разных групп, и если одна оказывается сильней и побеждает другую, то тогда устанавливается порядок, так как сильный за него отвечает. Такие правила игры мы и называем социальным порядком.
Как уже говорилось, общество создается взаимными опасениями. Эти опасения сбивают людей в группы. Человек мобилизует в корыстных целях весь потенциал группы. Люди все-таки не перебьют друг друга, так как это проти-
воречит принципу выживания. Основная идея Гоббса состоит в том, что можно устроить полноценное общество, если оно будет помогать каждому извлекать его выгоду. Разные люди видят выгоду в разном. Многообразием социальных благ человеческое общество и отличается от общества муравьев или пчел. После этого уже накладываются социальные ограничения. Конституция, совокупность ограничивающих социальных институтов — это все следствия общественного договора.
Общество держится на взаимном страхе. Именно страх заставляет искать социальных гарантий, избегать риска, искать помощи других людей. Государство основывается на потребности в безопасности, которая есть позитивная сторона страха. Гоббс признает, что люди от природы равны. Равными являются те, кто способен нанести друг другу взаимный равный ущерб. Неравенство — это порождение общества. Когда нет ограничивающих социальных институтов, происходит свободное перераспределение социальных благ, а когда они есть, происходит закрепление благ. Субъектом общественного договора является сильнейший. Он вводит институт престолонаследия. Вокруг наследника сплачивается группа (двор), которую удерживает вместе тот же страх.
Таким образом, гражданское общество представляет собой временную гармонию при взаимовыгодности интересов.
Наша жизнь — это взаимопроникновение двух состояний: естественного и цивилизованного. Чем больше зона их пересечения, тем более цивилизовано общество.
Менталитет граждан нашей страны тоже должен претерпеть изменения. Мы должны научиться и привыкнуть уважать закон и самостоятельно отслеживать его соблюдение.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТРОГОСТЬ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЙ АКТИВИЗМ
Суть мировой социологии — отстраненное от суеты и будней повседневности объективное изучение окружающего мира. Академическому идеалу, к которому вне всякого сомнения стремится наука социология, отвечают холодный разум, неучастие в социальных событиях, беспристрастность выводов, опирающихся на безупречную математическую логику.
В наибольшей мере академическую нейтральность социологии выразил позитивизм, пропагандирующий нейтралитет, невмешательство, объективность и точность науки. Созданная им философская база призвана была убедить социологов удержаться от участия в общественной жизни. Кажется, позитивизм сделал все возможное, чтобы удержать ученого-социолога на холодных вершинах разума.
Тем не менее именно создатель философии позитивизма О. Конт первым предал академические идеалы, спустившись с небес на землю. Его философия — первый в новейшей истории утопический проект того, как на основе социальной науки переделать все общество. Именно у него этика и религия, прорвав научные заслоны, широким потоком вторглись в пределы холодных формул и точных расчетов.
С тех пор раздвоение социологии только продолжалось. В каждом поколении социологов находилось несколько выдающихся, а то и великих фигур, которые демонстрировали миру не только научные достижения, но и общественное призвание социологии. Одни служили священниками и социальными работниками, другие выходили на баррикады, воевали на стороне экстремистских группировок. Их кабинетные размышления никак не сочетались с политическим активизмом, их чувства находились в противоречии с их разумом.
Конт призывал к созданию нового типа социализма, при котором сплоченность общества достигалась всеобщим стремлением всех людей к идеалам науки, превращением научного знания в новую разновидность религии. Жрецами современного общества должны были выступить ученые, вооруженные позитивным знанием об устройстве общества (позитивное у Конта служило синонимом опытного, научного знания). Еще раньше древнегреческий философ Платон призывал установить над обществом власть просвещенных философов, которые также были бы вооружены всеми необходимыми знаниями, но вдобавок и определенным образом воспитанные.
Создатель социальной теории конфликта К. Маркс перешел от слов к делу. Не воспринимая утопического проекта переустройства общества, созданного О. Контом (к которому, надо сказать, он испытывал большую неприязнь), Маркс разработал практическую технологию свержения власти, разрушения буржуазного общества и возведения на этом фундаменте всемирного социалистического общества — интернационала. В истории новоевропейской социально-экономической мысли эта школа представляет явление экстраординарное. Опираясь на лучшие достижения классической социально-философской мысли — французскую просветительскую философию, французский и английский утопический социализм, немецкую классическую философию и английскую политэкономию, — марксизм в то же время резко отвергал все интеллектуальные традиции, предлагая свой, леворадикальный, проект переустройства общества.
По мнению А. Гоулднера, после смерти Сен-Симона социологи, точнее, социальные мыслители, разделились на два лагеря: О. Конт создал программу академической социологии, выражавшей ценности среднего класса, а его противник К. Маркс — партийной социологии, выражавшей чаяния рабочего класса и призывавшей к свержению существующего строя. Академическая социология в XX в. стала популярной в широких слоях западной интеллигенции, была официально признана в качестве университетской науки в Европе и Америке, а затем и во всех других странах мира. Партийная же социология, именовавшаяся то научным коммунизмом, то историческим социализмом, практиковалась узкой кучкой интеллектуалов преимущественно в странах Восточной Европы, где она получила официальное признание и преподавалась в университетах, либо радикальной молодежью в бедных латиноамериканских странах.
Академическая социология во все времена прочно базировалась на сборе и анализе объективной эмпирической информации, опросах общественного мнения. Напротив, марксистская социология, ставшая официально признанной основой советской идеологии, переселившись из рабочих трущоб и душных мастерских, вольготно расположилась в просторных кабинетах партийных функционеров, отражая теперь уже их интересы, а не чаяния на-
родных масс. Такая социология, оторванная от жизни, превратилась в абстрактную догму. С этого момента, переместившись с баррикад в кабинеты, марксизм не критиковал, а защищал существующий строй — со всеми его недостатками и ошибками. Напротив, академическая социология, верная своим идеалам объективного отражения действительности, такой, какая она есть, призывала к ее реформированию и улучшению. Видимо, поэтому в первых рядах демократической интеллигенции, призывавшей в конце 1980-х и начале 1990-х гг. к радикальному изменению советского строя, находились также и социологи.
В это время на Западе происходило все наоборот: марксизм отражал скорее радикальные устремления социальных низов, а академизм — реформистские, полуконсервативные ориентации благополучного среднего класса, а отчасти и элиты общества. И вот сегодня в рядах антиглобалистов, выступающих против «акул капитализма», пожирающих Третий мир, можно встретить немало марксистски ориентированной молодежи. А в это время академических социологов компании нанимают в качестве своих ведущих консультантов.
Контовский вариант социологии называют еще позитивистской социологией за ее склонность не разрушать, а созидать общество, опираясь на точные факты и научные прогнозы; марксистский вариант социологии — критической социологией за ее склонность подвергать все сомнению и пересматривать самые основы общества, полагаясь на умозрительные конструкции. Однако их нельзя противопоставлять друг другу как «хорошую» и «плохую» социологии. Научно-эмпирическая функция социологии имеет такое же значение, как и социально-критическая. Никто другой, кроме Маркса, не дал западным социологам столько интересных и плодотворных идей для критического анализа современного общества.
Марксизм породил плеяду выдающихся социологов и социальных мыслителей мирового уровня: Ф. Энгельс, Н. Бухарин, Л. Троцкий, В. Ленин, Г. Лукач, А. Грамши, Г. Маркузе, Т. Адорно, М. Хорхаймер, Э. Фромм, Ю. Хабермас и др., — которые считаются продолжателями дела К. Маркса. Контовская же социология превратилась в современную академическую социологию благодаря усилиям нескольких поколений выдающихся социологов в разных странах мира. Их нельзя считать последователями Конта, который заложил только формальные основания науки. Содержательный потенциал учения Маркса оказался столь значительным, что, по существу, сравнялся с коллективным потенциалом всех немарксистских социологов. С Марксом продолжают полемизировать все социологи мира (ныне они появились и в России), а Конта вспоминают разве что историки науки.

|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 562; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!