
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Законы и нормативные документы 3 страница
|
|
|
|
 1 Лебедев В.А. Финансовое право. Т. 1. Вып. 1. - СПб., 1889. - С. 7.
1 Лебедев В.А. Финансовое право. Т. 1. Вып. 1. - СПб., 1889. - С. 7.
2 Витте СЮ. Конспект лекций о народном и государственном хозяй
стве.-СПб., 1912.
3 Там же. С. 416.
в нем является, во-первых, определение финансов не как ресурсов, а как отношений (у С. Витте — «способов») по юс формированию, во-вторых, С. Витте значительно «продвинул» теорию финансов, включив в это понятие и государственные расходы.
Теоретические выводы С. Витте не согласуются с его практической деятельностью. Будучи, например, на прогрессивных позициях в оценке косвенных налогов, он доводит их долю в доходах бюджета почти до 90%. Его оценка косвенных налогов практически не расходится с сегодняшней: «Косвенные налоги, падая большею частью на предметы общераспространенные, потребление которых не находится в прямом соответствии с имущественною состоятельностью потребителей, ложатся особенно тяжело на бедные классы населения и нередко оказываются обратно пропорциональными к средствам плательщика»1.
К началу XX века относится появление первых крупных работ М. Боголепова, В. Твердохлебова, А. Буковецкого, П. Гензеля и ряда других ученых. К сожалению, значительные достижения финансовой науки России советского периода в настоящее время не востребованы. Но труды таких ученых, как В. Дьяченко, А. Александров, А. Бирман, Э. Вознесенский, В. Чантладзе, Б. Болдырев еще будут предметом интереса исследователей более позднего времени.
Контрольные вопросы:
1. Назовите основные причины, определяющие различия финансов разных
общественно-экономических формаций.
2. Перечислите видных российских ученых-эконом и сто и XIX—XX веков.
3. Дайте определение финансов, предложенное С. Витте.
1.5. Государственные финансы в западных экономических теориях макрорегулирования
В первой половине XX века великий Дж. Кейнс писал: «Идеи экономистов и политических мыслителей— и когда они правы, и когда они ошибаются — имеют гораздо большее значение, чем принято Думать. В действительности, только они и правят миром. Люди практики, которые считают себя совершенно неподверженными интеллектуальным влияниям, обычно являются рабами какого-нибудь ономиста прошлого. Безумцы, стоящие у власти, которые слышат °Лоса с неба, извлекают свои сумасбродные идеи из творений како-
„Tfi Витте СЮ. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве.-СПб., 1912. -С. 416.

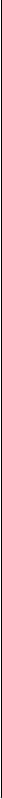

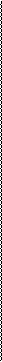

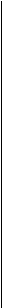

 го-нибудь академического писаки, сочинявшего несколько лет назад. Я уверен, что сила корыстных интересов значительно преувеличивается по сравнению с постепенным усилением влияния идей. Правда, это происходит не сразу, а по истечении некоторого периода времени». Весь ход новейшей истории подтверждает эту мудрость, \ нашедшую свое воплощение в появлении новых экономических идей и теснейшей взаимосвязи реальных экономических ситуаций, в которых за последние десятилетия оказывался мир. Поэтому развитие западной экономической науки представляет интерес в период перехода России на новую экономическую модель после дискредитации прежней системы централизованного планирования.
го-нибудь академического писаки, сочинявшего несколько лет назад. Я уверен, что сила корыстных интересов значительно преувеличивается по сравнению с постепенным усилением влияния идей. Правда, это происходит не сразу, а по истечении некоторого периода времени». Весь ход новейшей истории подтверждает эту мудрость, \ нашедшую свое воплощение в появлении новых экономических идей и теснейшей взаимосвязи реальных экономических ситуаций, в которых за последние десятилетия оказывался мир. Поэтому развитие западной экономической науки представляет интерес в период перехода России на новую экономическую модель после дискредитации прежней системы централизованного планирования.
В процессе активного реформирования экономики, начавшемся в Российской Федерации с 1992 году, допущено много стратегических и тактических ошибок, следствием которых являются негативные результаты в экономической и социальной сфере. В тоже время следует отметить, что экономическая теория Запада дает примеры преодоления больших трудностей хозяйственного развития, таких, как «Великая депрессия 30-х», сильнейшие экономические кризисы середины 70-х и начала 80-х годов, высокая инфляция этого же периода, серьезные структурные деформации, достаточно весомые масштабы безработицы и стремительный рост бюджетных, дефицитов и государственных долгов. Можно не бояться погрешить против истины, утверждая факт выдающихся достижений западных экономистов XX века, без которых подобных успехов экономическая практика никогда бы не имела.
После изучения данного параграфа станет более понятной логическая схема эволюции финансовой науки и ее сегодняшних задач, а также необходимость усвоения теоретического опыта развитых стран и возможностей его применения в практике российской экономики переходного периода. Как известно, генезис науки о финансах насчитывает несколько веков и его начало исследователи относят kXV— XVI векам. Не являясь исключением, финансовая наука, как и все прочие, рождается из потребностей практики, т.е. тогда, когда ранее не изучаемая сторона действительности становится стабильной и значимой для жизнедеятельности данной системы. Поэтому совершенно естественно, что финансовая практика на тысячелетия старше финансовой науки.
На грани средневековья и нового времени торговый капитализм создан как базисную возможность, так и определил настоятельную потребность в сознательном отношении к государственному денежному (финансовому) хозяйству. Вначале исследованием вопросов финан-
совой теории занимались ученые, создавшие общую политическую эко-; номию. Необходимо отдать дань уважения тем, кто вложил свой огромный труд в исследование тогда еще новой области знаний. Это гений средневековья Ф. Аквинский; меркантилисты XV и XVI веков Д. Караф, Ж. Боден; английские философы-эконом исты XVII столетия Т. Гоббс и Дж. Локк, а затем в XIX веке А. Пигу; выдающиеся немецкие финансисты-камералисты XVII—XVIII веков Ф. Юсти и И. Зонненфельс, французские физиократы XVIII века Ф. Кенэ, А. Тюр-го, О. Мирабо, а также в первой половине XIX века Ж. Сэй и Ф. Бас-тиа; гениальный А. Смит и его самый одаренный ученик Д. Рикардо; в XIX веке немецкие ученые Л. Штейн, А. Шеффле и А. Вагнер, К. Pay; на рубеже XIX—XX веков итальянские и шведские экономисты Мацолла, Ф. Нитги, Панталеони, Де Витти, Виксель, Линдаль; представители австрийской школы К. Менгер и Э. Сакс и другие. В этот славный ряд такими же крупными золотыми буквами могут по праву быть вписаны и имена выдающихся российских ученых XIX -начала XX веков: И. Тургенева, И. Озерова, И. Кулишера, А. Буковец-кого, Л. Ходского, В. Твердохлебова, И. Янжула, П. Гензеля, М. Алек-сеенко, П. Мигулина, Н. Яснопольского, М. Боголюбова, В. Лебедева, К. Шмелева, А. Тривуса, А. Соколова, М. Менькова, П. Микелад-зе, В.Дитмана. В советский период: А. Александрова, В. Чантладзе, Г. Точильникова, А. Бирмана, Э. Вознесенского.
Но при всем огромном разнообразии стилей, принципов, методологической базы, масштабов и уровней анализа у столь именитых авторов, необходимо обобщить основные направления их исследований, существенно отличающиеся от подходов к современным экономическим теориям. Дело в том, что на протяжении нескольких веков все темы, связанные с описанием отдельных сторон, выяснением сущности единичных категорий и анализом деятельности государственного денежного хозяйства в целом представляли собой относительно самостоятельную сферу изучения, существовавшую в жестком каркасе основных идей «классической» школы политэкономии.
Ученые — экономисты и финансисты — сначала долго спорили и откристализовывали само понятие сущности государственных финансов и их общественное назначение (функции), затем была длительная дискуссия о содержании, т.е. объекте, сфере распространения действия системы государственных финансов. Отдельно строились теории государственных доходов (в которых особым вниманием всегда пользовалась важнейшая их сфера— налогообложение), государственных расходов, бюджета и государственного кредита, финансового контроля. Причем, со временем внимание ко всем этим вопросам возрастало. Столь многоплановое и кропотливое изучение всех
. '" 57
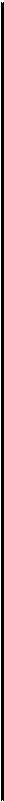


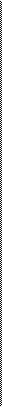

 деталей финансовой практики лучшими представителями экономической мысли на протяжении нескольких веков позволило создать достаточно стройную, убедительную и захватывающе интересную науку — «теорию финансов», в которой к концу первой трети XX века было уже мало белых пятен, так как внесена ясность по всем основным ее направлениям. Правда, элементы дискуссионных положений имеют место до сих пор, что в сущности вполне соответствует природе процесса научного познания. В противном случае, как известно, изначально научная логика и научная система обречены превратиться в догму.
деталей финансовой практики лучшими представителями экономической мысли на протяжении нескольких веков позволило создать достаточно стройную, убедительную и захватывающе интересную науку — «теорию финансов», в которой к концу первой трети XX века было уже мало белых пятен, так как внесена ясность по всем основным ее направлениям. Правда, элементы дискуссионных положений имеют место до сих пор, что в сущности вполне соответствует природе процесса научного познания. В противном случае, как известно, изначально научная логика и научная система обречены превратиться в догму.
Обращает на себя внимание тематика работ в области финансовой теории приблизительно с XVI и до первой трети XX века. Например, «Финансы — нервы государства» Ж. Бодена, «Трактат о налогах и сборах» В. Петти, «Основные начала полиции, торговли и финансов» И. Зонненфельса,«Начала политической экономии и налогового обложения» Д. Рикардо, «Основные начала финансовой науки» К. Pay, то же самое название основного труда Ф. Нитти, «Опыт по государственным финансам» А. Пигу, «Русский государственный кредит» П. Мигулина, «Взгляд на развитие учения о налоге» у экономистов А. Смита, Ж. Сэя, Рикардо, Сисмонди и Д. Милля, М. Алексеенко, «Основы финансовой науки» И. Озерова, «Налоги в иностранных государствах» — монография авторского коллектива: А. Буковецкий, П. Гензель, И. Кулишер, В. Твердохлебов, «Налоги как орудие экономической политики» А. Тривуса, «Конспект лекций о государственном хозяйстве» С. Витте. Продолжение этой тематики, правда, далеко не в таких значительных масштабах, имело место и в последние десятилетия в СССР, примером чему являются «Финансы как стоимостная категория» и «Методологические аспекты анализа сущности финансов» Э. Вознесенского.
Но государственные финансы неотделимы от государства, а государство XVIII — начала XX веков — это «ночной сторож», охраняющий мир, собственность и правопорядок, но ни в коем случае не хозяйствующий субъект, тем более претендующий на руководящую роль в общественном воспроизводстве. Государству можно, конечно, доверить руководить почтой, связью, непомерно дорогим даже для акционерных обществ строительством железных дорог и несколькими фискальными монополиями, но от всего, что приносит хотя бы среднюю прибыль, государство необходимо отстранить. Это основа национального менталитета и господствующее мировоззрение периода капитализма совершенной конкуренции. И роль, значимость государственных денежных фондов, полностью подчинялась ведуще-
му принципу невмешательства государства в экономику. Буржуазия, оберегая необходимую ей норму накопления, не была тогда готова к высоким налогам, так как не чувствовала никакой потребности в больших государственных расходах, и ей нужно было только «дешевое» правительство.
Вся система централизованных денежных фондов аккумулировала тогда сравнительно небольшую долю национального дохода, не превышающую к 20-м годам прошлого столетия 15% ВВП.
Тем не менее, уже с 1830-х годов относительные и абсолютные показатели величин государственных расходов начали возрастать. Первым, кто это заметил и сделал соответствующий прогноз, был экономический советник О. фон Бисмарка А. Вагнер. Его расчеты и теоретические выкладки были поистине революционны, так как он один из самых первых понял ограниченность рынка и разделил экономику на два сектора—государственный и частный, не считал правительство только непроизводительным органом и сформулировал «закон возрастающей государственной активности». В соответствии с последним во всех странах, где быстро развивается промышленность, государственные расходы должны увеличиваться более высокими темпами, чем объемы производства и национальные доходы. Кроме этого, растущая государственная активность, по его мнению, будет определяться социальным и научно-техническим прогрессом, а также возрастающим количеством причин для межгрупповых и внутригрупповых противоречий. Но гениальные прогнозы А. Вагнера не могли быть востребованы тогда его классом, и для оформления их в научную теорию время еще не пришло. В наши дни им отдают дань глубокого уважения и сравнивают с пророчествами М. Нострадамуса.
В хронологических рамках экономической истории (XVII —- первая треть XX века) «классическая школа» охватила весь период возникновения и формирования микроэкономики и была ориентирована исключительно на модель «свободного» рынка, выросшего из взаимодействия единичных потребителей и единичных производителей. Таким образом, вся экономика страны представлялась не более чем «совокупностью микрорынков», а объяснение механизмов движения и развития микроэкономики автоматически переносилось на экономику в целом и становилось теоретическим объяснением механизмов макроэкономического движения. Общую мировоззренческую сущность «классики», как известно, составляли тРи основные идеи:
требование невмешательства государства в экономику; бесконечный гимн свободной конкуренции;
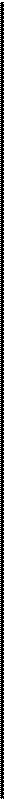
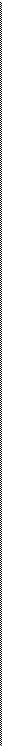
 • романтическая уверенность в надежности рыночного механизма установления равновесия между объемами платежеспособного спроса и товарного предложения, обеспечивающего экономическую эффективность.
• романтическая уверенность в надежности рыночного механизма установления равновесия между объемами платежеспособного спроса и товарного предложения, обеспечивающего экономическую эффективность.
Логика подобной системы взглядов на законы движения в мире материального производства предполагала, что отклонения от требуемого равновесия возможны только временные, а длительное завышение уровня цен или сокращение объема производства невозможны, так как ценовой механизм, обеспеченный условиями совершенной конкуренции, в конце концов все отрегулирует. Но «Великая депрессия» потому и имела место, что реальные процессы совсем перестали укладываться в концепцию «автоматической» самонастройки и это относилось прежде всего к инфляции и безработице. Быстро растущая монополизация большинства рыночных структур уничтожила условия совершенной конкуренции, а вместе с ними и ценовое саморегулирование. Объем совокупного спроса, который мог быть создан силами рынка (частное потребление плюс частное расходование капитала), был уже недостаточен, чтобы сохранить полную занятость. Брешь, которую необходимо было заполнить для стабилизации хотя бы относительного макроравновесия, намного превосходила ту норму частного инвестирования, которую тогда можно было поддерживать. Массовая безработица усилила роль социальных факторов, также деформирующих законы стихийного действия рыночных регуляторов. В отличие от предыдущих циклических кризисов перепроизводства, «Великая депрессия 30-х» обозначила кризис всей существующей системы мотивов, целей, методов экономического управления, а также обеспечивающих их экономических теорий. Государственная политика в отношении цикла не была готова к новой постановке проблемы поиска методов для достижения равновесия. В этих условиях в обществе всегда появляется острая необходимость в совершенно новых экономических концепциях (аналогичный случай имеет место в настоящее время в Российской Федерации, но пока, к сожалению, успеха не принес), экономических моделях, позволяющих создать новые условия для продолжения существования рыночной системы и объяснить законы последующего развития на другой теоретической высоте. Поэтому конец «Великой депрессии» с позиций эволюции производственных отношений и генезиса экономических теорий можно образно сравнить с «жирной чертой», проведенной под длительным этапом существования капитализма свободной конкуренции и «царства классики».
С 1940-х годов начинается следующий этап качественных изменений в системе координат всех экономических наук, который, ес-
явственно, не мог обойти стороной и «теорию финансов». Принципиально иной уровень общего философского и экономического мировоззрения с существенной корректировкой прежней системы ценностей позволили сконцентрировать внимание ученых на проблеме практического использования крупнейших денежных фондов национальной экономики, а многие вопросы богатейшего теоретического наследия прошедших веков перенести в учебники.
Первой и основополагающей экономической теорией «нового поколения», которая открыла дверь всем последующим модификациям экономической мысли Запада (и в этом смысле ее значение непреходяще), была «Общая теория занятости, процента и денег» Дж. Кейнса, опубликованная в J936 году. Последняя породила обширную литературу, прежде всего его многочисленных сторонников и последователей, образовавших целое направление, объединенное идеей относительной нестабильности капиталистической экономики, ввиду объективной невозможности активного государственного вмешательства. Новая концепция государственных финансов, получила свое развитие в послевоенном «неокейнсианстве». Таким образом, хронологические рамки вышеупомянутого «второго этапа» можно установить между 1940-ми и серединой 1970-х годов.
В период создания кейнсианской теории налицо были две основные проблемы— невиданные ранее масштабы безработицы, катастрофическое падение платежеспособного спроса (как потребительского, так и производственного), — и лишь две фазы циклического развития {кризис и депрессия). Поэтому Дж. Кейнса не могла тогда интересовать политика долгосрочного развития, и созданная им модель была статической, а все рассматриваемые в ней экономические процессы «действовали» лишь в рамках краткосрочного периода. Основные параметры (инвестиции, сбережения) не менялись во времени. В ответ на последующую критику этого обстоятельства он сам иронично замечал: «Наша жизнь тоже краткосрочна». Учитывая острую кризисность ситуации 1930-х годов и необходимость введения мер «скорой помощи», Дж. Кейнс сосредоточил все внимание на механизме формирования эффективного спроса в ближайшем будущем. И в решении этой задачи не могла остаться прежней ни узко фискальная, ни вся финансово-бюджетная политика в целом. В 1920-е годы обычно считалось, что последняя подлежит весьма жестким ограничениям, а сфера и размеры общественного вмешательства были строго ограничены догматами «здоровых финансов». По этому по-воду крупный французский экономист Л. Столерю отмечает: «Исключительно жесткая ограничительная политика в европейских государствах в период с 1930 по 1935 год, решительно направленная на
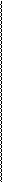

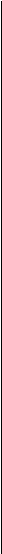
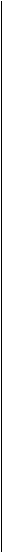
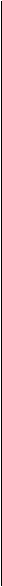
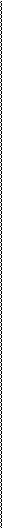

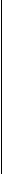

 балансирование бюджета во имя некоторых ортодоксальных догм в тот момент, когда государство должно было бы открыть клапаны своей кассы, привела к катастрофическим последствиям — катастрофическим для экономики, катастрофическим для цивилизации, если вспомнить о том, что именно неспособность Гинденбурга, слабого и бездеятельного канцлера, ликвидировать безработицу в Германии способствовала приходу нацизма»1.
балансирование бюджета во имя некоторых ортодоксальных догм в тот момент, когда государство должно было бы открыть клапаны своей кассы, привела к катастрофическим последствиям — катастрофическим для экономики, катастрофическим для цивилизации, если вспомнить о том, что именно неспособность Гинденбурга, слабого и бездеятельного канцлера, ликвидировать безработицу в Германии способствовала приходу нацизма»1.
В своей экономической концепции Дж. Кейнс радикально изменяет систему взглядов как на само понятие «макроэкономическое равновесие», так и на механизм его достижения. Он выступает против классических постулатов о том, что предложение товаров всегда само по себе создает спрос, что равновесие спроса и предложения постоянно обеспечивается движением цен, что равенство объема инвестирования и объема сбережений устанавливается автоматически через колебания нормы процента. Кроме того, он решительно отверг объяснение безработицы элементами государственного вмешательства и деятельностью профсоюзов, препятствующих снижению уровня заработной платы. Подобно И. Ньютону, который увидел за фактом падения с дерева яблока закон всемирного тяготения, Дж. Кейнс обнаружил и доказал, казалось бы, достаточно понятное явление, а именно — несовпадение так называемого «равновесного рыночного состояния» и состояния «полного использования» наличных производственных ресурсов. Хотя, по его мнению, только оно может обеспечить истинную пропорциональность развития экономической модели и достижение «золотого четырехугольника»: полная занятость, предотвращение инфляции, обеспечение платежного баланса и устойчивость роста национального дохода. В свою очередь, «драма» саморегулируемой рыночной экономики у «классиков» как раз и заключалась в стремлении достичь только рыночного равновесия. Исповедуя эту религию, в определенный момент классическая макроэкономика остановилась в состоянии неполного, неэффективного производства, не имея стимула двигаться к полному валовому национальному продукту (ВНП), неся огромные материальные потери и порождая сильное социальное напряжение. Формирование «эффективного спроса» в краткосрочном плане, столь необходимого для приостановления экономической и социальной катастрофы, никак не могло обойтись без роста государственных расходов и изменения отношения к политике налогов и бюджетных дефицитов.
В кейнсианской модели рассматривались различные варианты
 1 Отмерю Л. Равновесие и экономический рост. — М.: Статистика, 1974.,С. 89.
1 Отмерю Л. Равновесие и экономический рост. — М.: Статистика, 1974.,С. 89.
«создания» бюджетных дефицитов — как за счет увеличения расходов без увеличения налогов, так и за счет снижения налогов при неизменных расходах. И доказывалось, что, в частности, в период депрессии создание некоторого бюджетного дефицита есть мощное средство стимулирования экономической деятельности, особенно, когда он создается путем увеличения правительственных расходов. Дж. Кейнс считал, что если воздействие инвестиционного мультипликатора, обусловленного многократным повторением цепочки «рост инвестиций —рост занятости —рост национального дохода — рост совокупного спроса», все-таки недостаточно для достижения необходимой величины валового совокупного спроса, то эту инвестиционную недостаточность должно компенсировать государство как через государственные трансфертные инвестиции, так и вообще «через политику бюджетной экспансии». Эти основные положения кейнсианской «финансовой теории» легли в основу политики в отношении цикла в «ведущих демократических странах», о чем писал Э. Хансен в своей фундаментальной монографии «Экономические циклы и национальный доход» (США, 1951)]. Декларации таких стран, как Великобритания, Канада, Австралия, Швеция, США показали новую тенденцию политического мышления относительно цикла. Правительства объявили, что берут на себя ответственность за сохранение «высокого и стабильного уровня занятости» и первым шагом такой политики «должно быть недопущение того, чтобы упала совокупная сумма расходов», производимых в обществе. Но все осознавали, что столь энергичные действия для приостановки краха неизбежно требуют финансирования увеличивающихся непроизводительных затрат только за счет активного роста бюджетных дефицитов и всегда «сопровождающих» их государственных долгов. Но в тот период правительства рассматривали проблему послевоенных долгов как вполне поддающуюся регулированию.
Из ближайших последователей Дж. Кейнса, разделяющих его взгляды на возможности использования финансовой системы, заслуживает внимания теория американского экономиста А. Лернера, выпустившего в 1972 году солидный труд «Экономика занятости» (в России не издавался). В центре всей системы его теоретико-прагма-ических принципов стоит положение о развитии «функциональных Финансов». Оно, детализируя разработки Дж. Кейнса, также отражает требование формирования активной бюджетно-фискальной системы, направленной на поддержание определенного уровня го-
Хансен Э. Экономические циклы и националы!ый доход, классики кей-«сианства. Т. 2. - М.: Экономика, 1997. - С. 354.


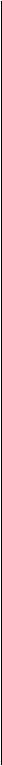
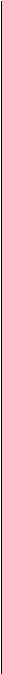
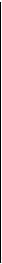



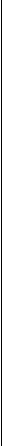 сударственных расходов, которые должны по мере необходимости обеспечивать нормальный рост личного потребления и инвестиций, когда эти расходы в целом недостаточны, и, наоборот, — создавать ограничительные барьеры в случае их «чрезмерности». Он считает, что самой существенной проблемой «нашего современного общества» является вопрос о том, как избежать депрессии и инфляции «с помощью регулирования нормы расходов», и приступает к поискам «механизма нормального регулирования». Именно такой механизм Лер-нер связывает с использованием «функциональных финансов» и сразу пытается ввести эту концепцию в определенные социальные рамки (и в этом смысле можно констатировать усиление социологизации теории). Когда говорят о неокейнсианстве, стремясь подчеркнуть то новое, что дали его представители по сравнению с наследием самого Дж. Кейнса, то к указанным новациям, прежде всего, относят теории экономического роста и циклического развития. По мере ликвидации послевоенных и кризисных последствий, уже в 1950-е годы проблема экономической динамики выдвигается на первый план, и западные экономисты сосредоточивают внимание не только на кризисах и депрессиях, но и на цикле в целом, включая оживление и подъем. Они доказывают, что бурные инфляционные бумы — явление для экономики не более желательное, чем затяжные спады, поэтому цикл нуждается в регулировании на всех стадиях своего протекания (ряд серьезных идей в этом направлении разработан Р. Харро-дом, Е. Домаром, Н. Калдором, П. Самуэльсоном, Дж. Хиксом). Но наибольшую известность в качестве главного неокейнсианского теоретика цикла приобрел американский экономист («американский Кейнс») Элвин Хансен. В своем труде «Экономические циклы и национальный доход» (США, 1951) он высказывает и доказывает «новейшие предложения в области фискальной и кредитно-денежной политики», в которых идет речь о «трех типах программ компенсирования, предназначенных поддерживать устойчивость». В основе этих программ лежит следующее:
сударственных расходов, которые должны по мере необходимости обеспечивать нормальный рост личного потребления и инвестиций, когда эти расходы в целом недостаточны, и, наоборот, — создавать ограничительные барьеры в случае их «чрезмерности». Он считает, что самой существенной проблемой «нашего современного общества» является вопрос о том, как избежать депрессии и инфляции «с помощью регулирования нормы расходов», и приступает к поискам «механизма нормального регулирования». Именно такой механизм Лер-нер связывает с использованием «функциональных финансов» и сразу пытается ввести эту концепцию в определенные социальные рамки (и в этом смысле можно констатировать усиление социологизации теории). Когда говорят о неокейнсианстве, стремясь подчеркнуть то новое, что дали его представители по сравнению с наследием самого Дж. Кейнса, то к указанным новациям, прежде всего, относят теории экономического роста и циклического развития. По мере ликвидации послевоенных и кризисных последствий, уже в 1950-е годы проблема экономической динамики выдвигается на первый план, и западные экономисты сосредоточивают внимание не только на кризисах и депрессиях, но и на цикле в целом, включая оживление и подъем. Они доказывают, что бурные инфляционные бумы — явление для экономики не более желательное, чем затяжные спады, поэтому цикл нуждается в регулировании на всех стадиях своего протекания (ряд серьезных идей в этом направлении разработан Р. Харро-дом, Е. Домаром, Н. Калдором, П. Самуэльсоном, Дж. Хиксом). Но наибольшую известность в качестве главного неокейнсианского теоретика цикла приобрел американский экономист («американский Кейнс») Элвин Хансен. В своем труде «Экономические циклы и национальный доход» (США, 1951) он высказывает и доказывает «новейшие предложения в области фискальной и кредитно-денежной политики», в которых идет речь о «трех типах программ компенсирования, предназначенных поддерживать устойчивость». В основе этих программ лежит следующее:
• встроенный механизм гибкости;
• автоматически действующие компенсирующие контрмеры;
• управляемые программы компенсирования.
Встроенные механизмы гибкости представляют собой автоматическую систему, которая в состоянии глушить колебания, но бессильна способствовать переходу от уровня депрессии к подлинному восстановлению. Система автоматически реагирует на изменение экономического положения. Она не требует сознательного управления. Одним из элементов такой программы является круто прогрессивная шкала подоходного налога. При фиксированной системе ставок
поступления от налога будут быстро возрастать с ростом дохода и резко падать с уменьшением дохода. Следовательно, бум имеет тенденцию создавать бюджетные излишки, а депрессия — бюджетный дефицит, то есть происходит то, что и требуется. Точно так же система страхования от безработицы действует автоматически как компенсирующая мера: в периоды процветания (когда безработных мало, общая сумма выплачиваемых пособий падает, в то время как поступление налогов, удерживаемых из заработной платы на социальное обеспечение, растет), в периоды депрессии (когда безработица велика, общая сумма пособий растет, а поступления налогов на нужды социального обеспечения падают). Налоги на нужды социального обеспечения превышают сумму выплачиваемых пособий в годы процветания, и это оказывает сдерживающее воздействие на бум; выплата пособий (по крайней мере, в сбалансированной системе или системе выплат из текущих доходов) превышает обложение по социальному обеспечению во время депрессии, и это оказывает смягчающее действие в период спада. И подобно этому, поддержание фермерских цен смягчает падение доходов фермеров в периоды, когда сельскохозяйственные цены снижаются. Отклонением от обычного типа программы поддержания цен является предложение, согласно которому фермеры продают по рыночным ценам, но в случае образования разрыва между рыночной ценой и ценой, которую предусмотрено поддержать, получают от правительства соответствующую компенсацию. Все это примеры «встроенных механизмов гибкости», действующих со стороны налогов или расходов.
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2014-11-09; Просмотров: 424; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!