
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Зак. 18 5 страница
|
|
|
|
Немногих написанных им работ оказалось достаточным для того, чтобы виднейший современный американский социолингвист Дж. Фиш-ман сравнил Б. Уорфа с Н. Коперником, Ч. Дарвином, 3. Фрейдом. Есть, впрочем, и ученые, полностью отвергающие его идеи. Следует разобраться в том, почему статьи Б. Уорфа вызывают столь разное отношение.
Непрофессионализм Б. Уорфа, его отдаленность от принятых в лингвистическом сообществе «правил игры» и влияние Э. Сепира, самого недогматичного из американских лингвистов, привели его к рассмотрению отвергнутой дескриптивистами «менталистской» тематики. Работая инженером по технике безопасности, он заинтересовался примерами влияния языка на поведение людей. Вот один пример: люди осторожны, имея дело со складом бензиновых цистерн, однако гораздо беспечнее становится их поведение возле склада «пустых бензиновых цистерн» (етргу §а5оНпе1апкз). Однако содержащие взрывчатые испарения «пустые» цистерны не менее опасны, чем полные, что приводило к несчастным случаям. Таким образом, оказывалось, что причина неприятностей до какой-то степени определялась двусмысленностью английского слова етргу (той же самой, что и у его русского эквивалента «пустой»).
В дальнейшем, занимаясь языком и культурой народа хопи, Б. Уорф обнаружил ряд различий между языком хопи и английским языком не только в способах обозначения тех или иных явлений действительности,
Гипотеза языковой относительности Бенджамена Уорфа
 но и в самом членении действительности на обозначаемые «куски». Эти различия проявляются как в лексике, так и в грамматике, в частности, в составе и семантике грамматических категорий.
но и в самом членении действительности на обозначаемые «куски». Эти различия проявляются как в лексике, так и в грамматике, в частности, в составе и семантике грамматических категорий.
Согласно Б. Уорфу, язык хопи отличается от английского и других европейских языков в отношении категорий числа и времени. В европейских языках, с одной стороны, категорию числа имеют существительные с предметным и с непредметным, в частности временным, значением. С другой стороны, имеется класс неисчисляемых существительных вроде русс, молоко, вода, песок или их английских эквивалентов. В языке хопи нет неисчисляемых существительных, но непредметные по значению существительные не имеют множественного числа и не сочетаются с количественными числительными. Грамматическая же категория времени в хопи вообще отсутствует. Что касается лексики, то в европейских языках слова, обозначающие отрезки времени (части суток, времена года и т. д.), легко «объективизируются» и выступают как существительные, тогда как в хопи им соответствуют формы наречий. В европейских языках широко распространен метафорический перенос лексических значений, в соответствии с которым слова с исконно пространственным значением приобретают значения временной длительности, интенсивности, направленности: ср. длинный карандаш и длинный день, высокий человек и высокий голос и т. д. В хопи такого рода метафоры не распространены, хотя соответствующие значения выражаются.
Такого рода различия Б. Уорф связывает с принципиальными различиями в культуре, в видении мира. Отказываясь вслед за Э. Сепиром непосредственно связывать с культурой общие характеристики языкового строя вроде распространения в языке флексии, агглютинации или изоляции, он считал культурно значимыми различия вроде описанных выше различий между хопи и европейскими языками. Несмотря на некоторые частные расхождения между языками Европы, Б. Уорф считает, что «грамматика европейских языков отражает "западную", или "европейскую" культуру»; в этих языках можно «выделить при помощи языка классы представлений, подобные "европейским", — "время", "пространство", "субстанция", "материя"». Некоторое сомнение он высказывает лишь в отношении балто-славянских и неиндоевропейских языков Европы, да и то считает его вряд ли обоснованным; действительно, почти все его английские примеры допускают эквивалентный перевод на русский язык. Эти языки Б. Уорф включил в единую группу «среднеевропейского стандарта» — 8АЕ.
Если внутри 8АЕ трудно выявить роль языка в категоризации действительности из-за принципиальной схожести такой категоризации, то при непредвзятом, лишенном стремления описывать все языки в единых категориях сопоставлении 8АЕ с резко отличным языком вроде хопи «задача выяснения... косвенного влияния грамматических категорий языка на поведение людей» решается легче. Если даже зна-
В. М. Алпатов
 чение конкретного слова етрЪу столь важно для жизни людей, то тем более это может относиться к обязательным грамматическим категориям вроде числа и времени.
чение конкретного слова етрЪу столь важно для жизни людей, то тем более это может относиться к обязательным грамматическим категориям вроде числа и времени.
Б. Уорф ставит два вопроса: «1) являются ли наши представления "времени", "пространства" и "материи" в действительности одинаковыми для всех людей или они до некоторой степени обусловлены структурой данного языка и 2) существуют ли видимые связи между: а) нормами культуры и поведения и б) основными лингвистическими категориями?» Исходя из описанных выше различий хопи и языков 8АЕ, Б. Уорф приходит к выводу о том, что перечисленные представления обусловлены языковой структурой и что связи между лингвистическими структурами и нормами культуры и поведения существуют.
Б. Уорф пытался выделить некоторые свойства западной культуры и культуры хопи, обусловленные, по его мнению, языковыми особенностями. В отношении западной культуры он, в частности, отмечает: «Микрокосм 8АЕ, анализируя действительность, использовал главным образом слова, обозначающие предметы (тела и им подобные) и те виды протяженного, но бесформенного существования, которые называются "субстанцией" или "материей". Он стремится увидеть действительность через двучленную формулу, которая выражает все сущее как пространственную форму плюс пространственная бесформенная непрерывность, соотносящаяся с формой, как содержимое соотносится с формой содержащего. Непространственные явления мыслятся как пространственные, несущие в себе те же понятия формы и непрерывности». «Наше объективизированное представление о времени соответствует историчности и всему, что связано с регистрацией фактов... Подобно тому, как мы представляем себе наше объективизированное время простирающимся в будущее так же, как оно простирается в прошлом, наше представление о будущем складывается на основании записей прошлого». Б. Уорф указывает на многие свойства европейской культуры, начиная от составления летописей и хроник и кончая учетом стоимости по затраченному времени, так или иначе связанные с существованием грамматической категории времени. Он не склонен категорически утверждать, что все это возможно лишь при тех представлениях о времени, которые закреплены в грамматической структуре 8АЕ, но тем не менее связи такого рода существуют.
Аналогичные характеристики Б. Уорф старается выделить для культуры хопи, считая, в частности, что хопи свойствен «взгляд на мир как на нечто находящееся в процессе какой-то подготовки», а «как физические, так и нефизические явления рассматриваются как выражение невидимых факторов силы». Подчеркивается отсутствие у хопи идеи историчности, интереса к регистрации фактов и т. д. Как показали последующие исследования языка и культуры хопи, Б. Уорф во многом был неточен. Однако данный факт не отменяет поставленной
Гипотеза языковой относительности Бенджамена Уорфа
 им проблемы о том, что те или иные элементарные для нас представления о мире могут быть в разных культурах различны.
им проблемы о том, что те или иные элементарные для нас представления о мире могут быть в разных культурах различны.
В то же время, говоря о культуре хопи, Б. Уорф далеко не все сводит к особенностям языка: «Мирное земледельческое общество, изолированное географическим положением и врагами-кочевниками, обитающее на земле, бедной осадками, земледелие на сухой почве, способное принести плоды только в результате чрезвычайного упорства (отсюда то значение, которое придается настойчивости и повторению), необходимость сотрудничества (отсюда та роль, которую играет психология коллектива и психологические факторы вообще), зерно и дождь как исходные критерии ценности, необходимость усиленной подготовки и мер предосторожности для обеспечения урожая на скудной почве при неустойчивом климате, ясное сознание зависимости от угодной природе молитвы и религиозное отношение к силам природы... — все это, взаимодействуя с языковыми нормами хопи, формирует их характер и мало-помалу создает определенное мировоззрение». При этом остается неясным соотношение между перечисленными внеязыковыми факторами, способными, как оказывается, объяснить едва ли не все выделенные Б. Уорфом особенности культуры хопи, и влиянием «языковых норм». Тем самым гипотеза о языковой природе представлений о пространстве, времени и т. д. оказывается неподтвержденной, тем более что за пределами привлекаемого в статье материала можно найти немало примеров, ставящих такую природу под сомнение. Например, интерес к хронологии и составлению летописей, отмечаемый Б. Уорфом как особенность 8АЕ, весьма был свойствен и китайской культуре начиная с очень древних времен, тогда как индийская культура все это игнорировала (как выше отмечалось, время жизни Панини известно с точностью до нескольких веков, тогда как годы жизни китайских книжников обычно мы знаем), но в китайском языке нет и по крайней мере в исторический период не было грамматической категории времени, а в санскрите она была.
Однако и это не отменяет самой поставленной Б. Уорфом проблемы. Он пишет: «Наш лингвистически детерминированный мыслительный мир не только соотносится с нашими культурными идеалами и установками, но захватывает даже наши, собственно, подсознательные действия в сферу своего влияния и придает им некоторые типические черты. Это проявляется, как мы видели, в небрежности, с какой мы, например, обычно водим машины, или в том, что мы бросаем окурки в корзину для бумаги. Типичным проявлением этого влияния, но уже в несколько ином плане, является наша жестикуляция во время речи... Хопи очень мало жестикулируют, а в том смысле, как понимаем жест мы, они не жестикулируют совсем». Вряд ли можно считать особо убедительными попытки объяснить различия в жестикуляции наличием или отсутствием в языке переноса пространственных представлений на
В. М. Алпатов
 непространственные. Но все-таки идея о взаимосвязанности разных элементов культуры, включая и язык, была важной и заслуживающей внимания.
непространственные. Но все-таки идея о взаимосвязанности разных элементов культуры, включая и язык, была важной и заслуживающей внимания.
В отношении первичности языка по отношению к культуре, как и в отношении зависимости культуры от языковых и внеязыковых факторов, Б. Уорф не был особо последователен. То он подчеркивал основополагающую роль языка, то писал, что культура и язык «в основном развивались вместе, постоянно влияя друг на друга». Но «в этом взаимовлиянии природа языка является тем фактором, который ограничивает свободу и гибкость этого взаимовлияния и направляет его развитие строго определенными путями. Это происходит потому, что язык является системой, а не просто комплексом норм. Структура большой системы поддается существенному изменению очень медленно, в то время как во многих других областях культуры изменения совершаются сравнительно быстро. Язык, таким образом, отражает массовое мышление: он реагирует на все изменения и нововведения, но реагирует слабо и медленно, в то время как в сознании производящих эти изменения это происходит моментально».
Пожалуй, усиливается категоричность Б. Уорфа в отношении первичности языка в статье * Наука и языкознание». Здесь он обращается к вопросу о соотношении языка и логики. Б. Уорф отвергает традиционные идеи о существовании «законов логики или мышления, будто бы одинаковых для всех обитателей вселенной и отражающих рациональное начало, которое может быть обнаружено всеми разумными людьми независимо друг от друга, безразлично, говорят ли они на китайском языке или на языке чоктав». Однако логика зависит от родного языка человека, в частности от его грамматики. По мнению Б. Уорфа, «естественная логика... не учитывает того, что факты языка составляют для говорящих на данном языке часть их повседневного опыта, и поэтому эти факты не подвергаются критическому осмыслению и проверке. Таким образом, если кто-либо, следуя естественной логике, рассуждает о разуме, логике и законах правильного мышления, он обычно склонен просто следовать за чисто грамматическими фактами, которые в его собственном языке или семье языков составляют часть его повседнев-ного опыта, но отнюдь не обязательны для всех языков и ни в каком смысле не являются общей основой мышления». В данной статье и в статье «Лингвистика и логика» Б. Уорф приводит ряд примеров из хопи и других индейских языков Северной Америки, показывая, что в них нельзя обнаружить многие категории традиционной логики. В частности, произведенное Аристотелем разграничение субъекта и предиката, возведенное в ранг «закона разума», — лишь отражение грамматической структуры древнегреческого и других индоевропейских языков, а вовсе не универсалия. Как будет показано ниже, сходную точку зре-
Гипотеза языковой относительности Бенджамена Уорфа
 ния относительно категорий аристотелевской логики выдвигал примерно в те же годы и французский лингвист Э. Бенвенист.
ния относительно категорий аристотелевской логики выдвигал примерно в те же годы и французский лингвист Э. Бенвенист.
Б. Уорф безусловно признает существование универсальных представлений человека о мире: «Закон тяготения не знает исключений», «Наш глаз видит предметы в тех же пространственных формах, как их видит и хопи». Однако выводы из этих представлений могут быть различны: «Для нашего представления о пространстве характерно еще и то, что оно используется для обозначения таких непространственных отношений, как время, интенсивность, направленность... Пространство в восприятии хопи не связано психологически с подобными обозначениями».
Итак, все в языковом мире относительно, и говорить о каких-то универсалиях опасно. Как подчеркивает Б. Уорф, «мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным языком... Мы сталкиваемся, таким образом, с новым принципом относительности, который гласит, что сходные физические явления позволяют создать сходную картину вселенной только при сходстве или по крайней мере при соотносительности языковых систем». В связи с этим концепция Б. Уорфа получила наименование гипотезы языковой относительности. Б. Уорф при этом выражает скепсис в отношении возможности описывать природу объективно: «Человеком более свободным в этом отношении, чем другие, оказался бы лингвист, знакомый со множеством самых разнообразных языковых систем. Однако до сих пор таких лингвистов не было».
Впрочем, если в статье «Наука и языкознание» делаются столь далеко идущие выводы, то в статье «Отношение норм поведения и мышления к языку» выводы Б. Уорфа осторожнее: «Между культурными нормами и языковыми моделями есть связи, но нет корреляций или прямых соответствий. Хотя было бы невозможно объяснить существование Главного Глашатая отсутствием категории времени в языке хопи, вместе с тем, несомненно, наличествует связь между языком и остальной частью культуры общества, которое этим языком пользуется. В некоторых случаях... существуют связи между применяемыми лингвистическими категориями, их отражением в поведении людей и теми разнообразными формами, которые принимает развитие культуры». В связи с этим рекомендуется изучать культуру и язык «как нечто целое», с учетом их взаимозависимости.
Безусловно, существование связи между языком и культурой признавалось всеми. Даже столь отличный от Б. Уорфа 3. Харрис упоминал о такой связи, лишь исключая ее изучение из сферы деятельности лингвиста. Так называемая «гипотеза Уорфа», или (как пишут чаще) «гипотеза Сепира—Уорфа», о которой говорят после 1939 г. ее сторонники и противники, обычно формулируется как предположение о том, что мышление и культура народа всецело определяются его языком. В столь категоричной форме гипотезу Э. Сепир не формулировал вообще, а Б. Уорф сопровождал ее выдвижение рядом существенных оговорок, осо-
16 Зак. 18
В. М. Алпатов

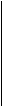
 бенно в отношении языка и культуры. Традиционный вариант гипотезы более всего основан на приводимых Б. Уорфом примерах и доведении до логического завершения его точки зрения.
бенно в отношении языка и культуры. Традиционный вариант гипотезы более всего основан на приводимых Б. Уорфом примерах и доведении до логического завершения его точки зрения.
Хотя проблематика Б. Уорфа была нестандартна для лингвистики его времени, где господствовал структурализм, нельзя сказать, что она вообще не была созвучна своему времени. Однако более всего интересовались такими проблемами нелингвисты. В 30-е гг. еще были популярны выдвинутые в начале века идеи французского этнографа Люсьена Леви-Брюля (1857—1939) об особом первобытном мышлении, принципиально отличном от мышления развитых народов. Эта концепция, впрочем, сохраняла черты стадиальности, отсутствующие у Б. Уорфа. Для последнего представления о времени у хопи ничуть не хуже, хотя и не лучше соответствующих европейских представлений. Такой подход вполне соответствовал традициям американской антропологии начиная от Ф. Боаса. Можно отметить и распространившийся в исторической науке времен Б. Уорфа так называемый цивилизационный подход (впервые высказанный русским мыслителем XIX в. Н. Я. Данилевским), согласно которому история складывается из множества не связанных друг с другом и разных по закономерностям развития цивилизаций.
В области же лингвистики Б. Уорф (вероятно, через посредство Э. Сепира) возвращался к идеям В. фон Гумбольдта, который еще более последовательно, чем сам Б. Уорф, писал о «круге», который каждый язык описывает вокруг народа. Проблематика статей сборника «Язык, мысль и реальность» возрождала отошедшую в лингвистике первой половины XX в. на второй план многовековую проблему языка и мышления. Б. Уорф, как и В. фон Гумбольдт, отстаивал здесь приоритет языка. Можно спорить о достоверности и корректности тех или иных его примеров, но проблема того, как язык по-разному категоризует мир, безусловно существует.
Противники гипотезы лингвистической относительности неоднократно указывали на то, что в своей радикальной форме она означает, будто носители разных языков, по-разному воспринимая мир, не могут понимать друг друга и взаимодействовать друг с другом, что опровергается опытом человечества. Впрочем, столь радикально Б. Уорф вопрос и не ставил, подчеркивая, что не все в культуре определяется языком. Однако, как уже отмечалось, критериев разграничения языковых и неязыковых факторов он не предложил.
Судьба гипотезы Б. Уорфа оказалась довольно необычной. Она была сформулирована в том виде, в котором сам американский исследователь ее не представлял, а затем большинство лингвистов просто отвергали с порога ту ее крайнюю формулировку, за которую сам Б. Уорф не нес ответственности (типичный пример — вводная статья В. А. Звегин-цева к публикации статьи в его хрестоматии); некоторые лингвисты, наоборот, придавали гипотезе очень большое значение, обычно исходя
Гипотеза языковой относительности Бенджамена Уорфа
 при этом более из общефилософских, чем конкретно-лингвистических принципов. Что же касается самой гипотезы (если только не формулировать ее в явно абсурдном виде), то лингвистика ни при жизни Б. Уорфа, ни сейчас не могла и не может ее ни доказать, ни опровергнуть. Б. Уорф поднял (и далеко не первым, достаточно вспомнить В. фон Гумбольдта) важные и серьезные проблемы, для решения которых у лингвистики нет инструмента, сколько-нибудь сравнимого, скажем, с инструментом фонологии или компаративистики. Фактов очень много, и после Б. Уорфа их накопление продолжалось, но понятийного аппарата и разработанной методики для анализа этих фактов пока нет. Гипотезу Б. Уорфа пытались даже экспериментально проверять, но четких результатов такие опыты не дали ни в ту, ни в другую сторону.
при этом более из общефилософских, чем конкретно-лингвистических принципов. Что же касается самой гипотезы (если только не формулировать ее в явно абсурдном виде), то лингвистика ни при жизни Б. Уорфа, ни сейчас не могла и не может ее ни доказать, ни опровергнуть. Б. Уорф поднял (и далеко не первым, достаточно вспомнить В. фон Гумбольдта) важные и серьезные проблемы, для решения которых у лингвистики нет инструмента, сколько-нибудь сравнимого, скажем, с инструментом фонологии или компаративистики. Фактов очень много, и после Б. Уорфа их накопление продолжалось, но понятийного аппарата и разработанной методики для анализа этих фактов пока нет. Гипотезу Б. Уорфа пытались даже экспериментально проверять, но четких результатов такие опыты не дали ни в ту, ни в другую сторону.
В последние годы проблематика, связанная с именем талантливого непрофессионала, стала популярнее, чем раньше. Проводятся конференции, издаются книги, специально посвященные Б. Уорфу и его идеям, однако при этом указывается, что возрождение интереса связано не с развитием каких-либо методов или экспериментальной базы, а скорее с появлением сходных философских концепций. Нередко под предлогом разработки восходящей к Б. Уорфу проблематики пытаются «доказать» априорные вненаучные утверждения, например вывести из строя соответствующего языка приверженность американцев к индивидуализму, а японцев к коллективизму и т. д. Безусловно, для рассмотрения вопросов о языковых картинах мира, о связях между языком и культурой требуется содружество между лингвистами и учеными других специальностей. Изучение всего этого должно быть комплексным, однако другие науки пока что еще меньше, чем лингвистика, способны предложить здесь какие-либо объективные методы. Значение Б. Уорфа для истории лингвистики не в разрешении, а в новой постановке вопросов, о которых наука о языке на какое-то время забыла.
ЛИТЕРАТУРА
Звегинцев В. А. Теоретико-лингвистические предпосылки гипотезы Сепира—Уорфа // Новое в лингвистике, вып. 1. М., 1960.
Блэк М. Лингвистическая относительность (Теоретические воззрения Бенджамена Л. Уорфа) // Там же.
16*
СОВЕТСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 20—50-х ГОДОВ
При всей специфике общественной и научной ситуации в нашей стране отечественное языкознание не было в стороне от общего развития мировой науки о языке. Хотя термин «структурализм» в СССР до 50-х гг. не был принят, но многие советские лингвисты объективно шли тем же путем, что и ученые Запада, обратившись к синхронным методам и стремясь системно рассматривать явления языка. В советской науке тех лет не получили распространения идеи глоссематики или дескриптивизма, в то же время многие из советских лингвистов были достаточно близки к Пражской школе. Связь советских лингвистов с пражцами (среди последних были и эмигранты из России) была не только идейной: многие из них, в том числе Г. О. Винокур, Н. Ф. Яковлев, отчасти Е. Д. Поливанов, находились в тесном контакте через переписку, а иногда и личные встречи с некоторыми пражцами, прежде всего с Р. Якобсоном, а живший в 1924—1928 гг. в Чехословакии Н. Н. Дурново стал связующим звеном между Пражской и Московской школами. До определенной степени можно говорить, что Пражская школа и ряд направлений советской лингвистики тех лет составляли единую ветвь структурализма.
В то же время многие советские ученые, в частности Е. Д. Поливанов, Л. В. Щерба, высказывали и весьма оригинальные идеи, не имевшие параллелей в западной науке. На деятельность близких к структурализму советских ученых оказывали влияние и особые задачи, которые им приходилось решать, прежде всего разработка письменностей для языков народов СССР. Наряду с учеными, искавшими новые пути, работали и языковеды, придерживавшиеся старых, прежде всего младограмматических идей. Особое место в развитии советской науки о языке занимал маррнзм, которому удалось с конца 20-х гг. надолго занять в ней монопольное положение, что нанесло большой ущерб развитию советской лингвистики, хотя и не прекратило его совсем.
Еще в предреволюционные годы в отечественном языкознании сложились две крупные школы: Московская, основанная Ф. Ф. Фортунатовым, и Петербургская во главе с И. А. Бодуэном де Куртенэ. После революции по разным причинам покинули страну многие ученые: И. А. Бодуэн де Куртенэ, В. К. Поржезинский, Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон и др. Обе школы, однако, сохранились. Более устойчивыми оказались традиции Московской школы, поддерживавшиеся в МГУ и других московских вузах Д. Н. Ушаковым и Михаилом Николаевичем Петерсоном (1885—1962). Большинство ученых, о которых дальше будет идти речь, в той или иной степени относились к этой школе: А. М. Пешковский, Г. О. Винокур, Н. Ф. Яковлев, П. С. Кузнецов, Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров, А. А. Реформатский. Петербургская школа оказалась менее однородной. После отъезда И. А. Бодуэна де Куртенэ ее возглавил Л. В. Щерба, по ряду вопросов, как будет показано ниже,
Советское языкознание 20—50-х годов
 значительно отошедший от взглядов своего учителя. Более верен бодуэ-новской традиции был Е. Д. Поливанов, но он с начала 20-х гг. уехал из Петрограда и в силу обстоятельств своей биографии не смог создать научной школы. Из Петербургской школы вышел и Виктор Владимирович Виноградов (1895—1969), по взглядам в целом близкий к Л. В. Щербе; переехав в конце 20-х гг. в Москву, он создал собственную школу языковедов (С. И. Ожегов и др.), конкурировавшую с Московской школой. Ученики Л. В. Щербы преимущественно занимались фонетикой и фонологией, ученики В. В. Виноградова — грамматикой и лексикой русского языка. Еще одним видным представителем Петербургской школы был ученик И. А. Бодуэна де Куртенэ Лев Петрович Якубинский (1892—1945), автор значительной работы о диалогической речи (1923), также значительно отошедший от идей учителя.
значительно отошедший от взглядов своего учителя. Более верен бодуэ-новской традиции был Е. Д. Поливанов, но он с начала 20-х гг. уехал из Петрограда и в силу обстоятельств своей биографии не смог создать научной школы. Из Петербургской школы вышел и Виктор Владимирович Виноградов (1895—1969), по взглядам в целом близкий к Л. В. Щербе; переехав в конце 20-х гг. в Москву, он создал собственную школу языковедов (С. И. Ожегов и др.), конкурировавшую с Московской школой. Ученики Л. В. Щербы преимущественно занимались фонетикой и фонологией, ученики В. В. Виноградова — грамматикой и лексикой русского языка. Еще одним видным представителем Петербургской школы был ученик И. А. Бодуэна де Куртенэ Лев Петрович Якубинский (1892—1945), автор значительной работы о диалогической речи (1923), также значительно отошедший от идей учителя.
В 20,-е гг. основную роль в развитии языкознания продолжали играть Московский и Петроградский (Ленинградский) университеты. Резко упало значение периферийных вузов, хотя в провинции работали крупные ученые, например В. А. Богородицкий в Казани. Позже в связи с общей реорганизацией научной деятельности в СССР упала роль вузовской науки; в 30-е гг. в МГУ вообще не преподавали языкознание, кадры специалистов готовили в это время в педагогических вузах, среди которых выделялся в это время Московский городской педагогический институт (МГПИ), где работали Г. О.Винокур и ученые Московской фонологической школы; лишь в годы войны в МГУ был воссоздан филологический факультет. В то же время создаются ранее не существовавшие в нашей стране научно-исследовательские лингвистические институты. Самым крупным и жизнеспособным из них оказался институт, созданный в 1922 г. академиком Н. Я. Марром в Петрограде — Яфетический институт Академии наук, первоначально как институт для разработки его «нового учения о языке». Очень скоро, однако, Яфетический институт перерос рамки марризма, в нем сконцентрировались многие ведущие советские языковеды разных специальностей. В 30—40-е гг. институт функционировал как Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра АН СССР, в 1950 г. он был преобразован в Институт языкознания АН СССР с переводом основной его части в Москву. После войны от института отделился Институт русского языка АН СССР.
В 20-е гг. учение Н. Я. Марра хотя и было популярно, особенно среди ленинградских языковедов, но существовало лишь наряду с другими. Однако к концу 20-х гг. Н. Я. Марр, объявив свое учение «марксизмом в языкознании» (хотя его сходство с марксизмом было достаточно внешним), добился поддержки партийно-государственного руководства и установил монопольное господство в советском языкознании. Многие ученые, в том числе споривший с марризмом Е. Д. Поливанов, лишились возможности нормально работать. Целые направления были объявлены «буржуазными», в первую очередь сравнительно-историческое языкознание; компаративистика на многие годы была в СССР свернута. В то же время даже в самый тяжелый период господства марризма, в первой половине 30-х гг., научные исследования продолжались. На те же годы пришелся пик деятельности
В. М. Алпатов
 специалистов по языковому строительству, разрабатывавших письменности и литературные языки для народов СССР. Для решения проблем языкового строительства необходимо было описывать соответствующие языки.
специалистов по языковому строительству, разрабатывавших письменности и литературные языки для народов СССР. Для решения проблем языкового строительства необходимо было описывать соответствующие языки.
30-е гг. стали трагическим временем для отечественного языкознания. Погибли Е. Д. Поливанов, Н. Н. Дурново, Г. А. Ильинский и др. В лагере или ссылке находились А. М. Селищев, В. В. Виноградов, В. Н. Сидоров и др., впоследствии вернувшиеся к научной деятельности.
Господство марризма закончилось в июне 1950 г., когда против него выступил И. В. Сталин. Его серия статей была затем объединена в брошюру «Марксизм и вопросы языкознания». Брошюра в основном была написана с позиций языкознания конца XIX в., прежде всего в его младограмматическом варианте. Сравнительно-исторический метод был реабилитирован и объявлен приоритетным. Лингвистам велено было вернуться к традициям русской дореволюционной науки. Ведущую роль в советской лингвистике начала 50-х гг. играли упоминавшийся выше В. В. Виноградов, к тому времени академик, возглавивший Институт языкознания, а позже Институт русского языка, и последовательный младограмматик по взглядам, грузинский кавказовед Арнольд Степанович Чикобава (1898—1985). Лингвисты, ранее противостоявшие марризму, включая и структуралистов по идеям, получили в 1950 г. возможность нормально работать, однако им первоначально приходилось вести исследования в полном отрыве от лингвистики за рубежом. Если наука XIX в. могла оцениваться объективно, то современная западная лингвистика, как и во времена марризма, продолжала замалчиваться или же резко критиковаться. Новый этап в развитии советской лингвистики начался со второй половины 50-х гг., когда развернулось активное освоение идей и методов зарубежной науки.
Рассмотрев развитие советской науки в целом, можно перейти к анализу взглядов наиболее крупных лингвистов 20—50-х гг.
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 441; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!