
КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Общественное мнение не существует
|
|
|
|
Прежде всего хотел бы уточнить, что в мои намерения входит не простое и механическое разоблачение опросов общественного мнения, но попытка строгого анализа их функционирования и назначения. Это предполагает, что под сомнение будут поставлены три постулата, имплицитно задействованные в опросах. Так, всякий опрос мнений 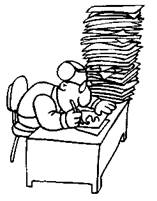 предполагает, что все люди могут иметь мнение или, иначе говоря, что производство мнения доступно всем. Этот первый постулат я оспорю, рискуя задеть чьи-то наивно демократические чувства. Второй постулат предполагает, будто все мнения значимы. Я считаю возможным доказать, что это вовсе не так, и что факт суммирования мнений, имеющих отнюдь не одну и ту же реальную силу, ведет к производству лишенных смысла артефактов. Третий постулат проявляется скрыто: тот простой факт, что всем задается один и тот же вопрос, предполагает гипотезу о существовании консенсуса в отношении проблематики, т.е. согласия, что вопросы заслуживают быть заданными. Эти три постулата предопределяют, на мой взгляд, целую серию деформаций, которые обнаруживаются даже, если строго выполнены все методологические требования в ходе сбора и анализа данных.
предполагает, что все люди могут иметь мнение или, иначе говоря, что производство мнения доступно всем. Этот первый постулат я оспорю, рискуя задеть чьи-то наивно демократические чувства. Второй постулат предполагает, будто все мнения значимы. Я считаю возможным доказать, что это вовсе не так, и что факт суммирования мнений, имеющих отнюдь не одну и ту же реальную силу, ведет к производству лишенных смысла артефактов. Третий постулат проявляется скрыто: тот простой факт, что всем задается один и тот же вопрос, предполагает гипотезу о существовании консенсуса в отношении проблематики, т.е. согласия, что вопросы заслуживают быть заданными. Эти три постулата предопределяют, на мой взгляд, целую серию деформаций, которые обнаруживаются даже, если строго выполнены все методологические требования в ходе сбора и анализа данных.
Опросам общественного мнения часто предъявляют упреки технического порядка. Например, ставят под сомнение репрезентативность выборок. Я полагаю, что при нынешнем состоянии средств, используемых службами изучения общественного мнения, это возражение совершенно необоснованно. Выдвигаются также упреки, что в опросах ставятся хитрые вопросы или что прибегают к уловкам в их формулировках. Это уже вернее, часто получается так, что ответ выводится из формы построения вопроса. Напри-
мер, нарушая элементарное предписание по составлению вопросника, требующее «оставлять равновероятными» все возможные варианты ответа, зачастую в вопросах или в предлагаемых ответах исключают одну из возможных позиций или к тому же предлагают несколько раз в различных формулировках одну и ту же позицию. Есть разнообразные уловки подобного рода, и было бы интересно порассуждать о социальных условиях их появления. Большей частью они связаны с условиями, в которые поставлены составители вопросников. Но главным образом, уловки возникают потому, что проблематика, которую прорабатывают в институтах изучения общественного мнения, подчинена запросам особого типа.
Так, в ходе анализа инструментария крупного национального опроса французов о системе образования мы подняли в архивах ряда бюро этой службы все вопросы, касающиеся образования. Оказалось, что более 200 из них было задано в опросах, проведенных после событий мая 1968 г., и только 20 — в период с 1960 по 1968 г. Это означает, что проблематика, за изучение которой принимается такого рода организация, глубоко связана с конъюнктурой и подчинена определенному типу социального заказа. Вопрос об образовании, например, мог быть поставлен институтом общественного мнения только тогда, когда он стал политической проблемой. В этом сразу же видно отличие, отделяющее подобные институции от центров научных исследований, проблематика которых зарождается если и не на небесах, то во всяком случае при гораздо большем дистанцировании от социального заказа в его прямом и непосредственном виде.
Краткий статистический анализ задававшихся вопросов показал нам, что их подавляющая часть была прямо связана с политическими заботами «штатных политиков». Если бы мы с вами решили позабавиться игрой в фанты и я бы попросил вас написать по пять наиболее важных, на ваш взгляд, вопросов в области образования, то мы, несомненно, получили бы список, существенно отличающийся от того, что нами обнаружен при инвентаризации вопросов, действительно задававшихся в ходе опросов общественного мнения. Вариации вопроса «Нужно ли допускать политику в лицей?» ставились очень часто, в то время как вопросы «Нужно ли менять программы?» или «Нужно ли менять способ передачи содержания?» задавались крайне редко. То же самое с вопросом «Нужна ли переподготовка преподавателей?» и другими важными, хотя и с иной точки зрения, вопросами.
Предлагаемая исследованиями общественного мнения проблематика подчинена политическим интересам, и это очень сильно сказывается одновременно и на значении ответов, и на значении, которое придается публикации результатов. Зондаж общественного мнения в сегодняшнем виде — это инструмент политического действия; его, возможно, самая важная функция состоит во внушении иллюзии, что существует общественное мнение как императив, получаемый исключительно путем сложения индивидуальных мнений: и во внедрении идеи, что существует нечто вроде среднего арифметического мнений или среднее мнение. «Общественное мнение», демонстрируемое на первых страницах газет в виде процентов («60% французов одобрительно относятся к...») есть попросту чистейший артефакт. Его назначение — скрывать то, что состояние общественного мнения в данный момент суть система сил, напряжений и что нет ничего более неадекватного, чем выражать состояние общественного мнения через процентное отношение.
Известно, что любое использование силы сопровождается дискурсом нацеленным на легитимацию силы того, кто ее применяет. Можно да^р сказать, что суть любого отношения сил состоит в проявлении всей своей силы только в той мере, в какой это отношение как таковое остается сокрытым. Проще говоря, политик — это тот, кто говорит: «Бог с нами». Эквивалентом выражения «Бог с нами» сегодня стало «Общественное мнение с нами». Таков фундаментальный эффект опросов общественного мнения-утвердить мысль о существовании единодушного общественного мнения т.е. легитимировать определенную политику и закрепить отношения сил, на которых она основана или которые делают ее возможной.
Высказав с самого начала то, что хотел сказать в заключении, я постараюсь хотя бы в общем виде обозначить те приемы, с помощью которых достигается эффект консенсуса. Первый прием, отправной точкой имеющий постулат, по которому все люди должны иметь мнение, состоит в игнорировании позиции «отказ от ответа». Например, вы спрашиваете: «Одобряете ли Вы правительство Помпиду?» В результате регистрируете: 20% «да», 50% «нет», 30% — «нет ответа». Можно сказать: «Доля людей, не одобряющих правительство, превосходит долю тех, кто его одобряет, и в остатке 30% не ответивших». Но можно и пересчитать проценты «одобряющих» и «не одобряющих», исключив «не ответивших»; этот простой выбор становится теоретическим приемом фантастической значимости, о чем я и хотел бы немного порассуждать.
Исключить «не ответивших» значит сделать то же самое, что делается на выборах при подсчете голосов, когда встречаются пустые, незаполненные бюллетени: это означает навязывание опросам общественного мнения скрытой философии голосования. Если присмотреться повнимательнее, обнаруживается, что процент не дающих ответа на вопросы анкеты выше в целом среди женщин, нежели среди мужчин, и что разница на этот счет тем существеннее, чем более задаваемые вопросы оказываются собственно политическими. Еще одно наблюдение: чем теснее вопрос анкеты связан с проблемами знания и познания, тем больше расхождение в доле «не ответивших» между более образованными и менее образованными. И наоборот, когда вопросы касаются этических проблем, например, «Нужно ли быть строгими с детьми?», процент лиц, не дающих на них ответа, слабо варьирует в зависимости от уровня образования респондентов. Следующее наблюдение: чем сильнее вопрос затрагивает конфликтогенные проблемы, касается узла противоречий (как с вопросом о событиях в Чехословакии для голосующих за коммунистов), чем больше напряжения порождает вопрос для какой-либо конкретной категории людей, тем чаще среди них будут встречаться «не ответившие». Следовательно, простой анализ статистических данных о «не ответивших» дает информацию о значении этого вопроса, а также о рассматриваемой категории респондентов. При этом информация определяется как предполагаемая в отношении этой категории вероятность иметь мнение и как условная вероятность иметь благоприятное или неблагоприятное мнение.
Научный анализ опросов общественного мнения показывает, что практически не существует проблем по типу «омнибуса»; нет такого вопроса, который не был бы переистолкован в зависимости от интересов тех, кому он задается. Вот почему первое настоятельное требование для исследовате-
ля — уяснить, на какой вопрос различные категории респондентов дали, по их мнению, ответ. Один из наиболее вредоносных «эффектов изучения» общественного мнения состоит именно в том, что людям предъявляется требование отвечать на вопросы, которыми они сами не задавались. Возьмем, к примеру, вопросы, в центре которых моральные проблемы, идет ли речь о строгости родителей, взаимоотношениях учителей и учеников, директивной или недирективной педагогике и т.п. Они тем чаще воспринимаются людьми как этические проблемы, чем ниже эти люди находятся в социальной иерархии, но эти же вопросы могут являться проблемами политическими для людей высших классов. Таким образом, один из эффектов опроса заключается в трансформации этических ответов в ответы политические путем простого навязывания проблематики.
На самом деле, есть множество способов, при помощи которых можно предопределить ответ. Есть прежде всего то, что можно назвать политической компетенцией по аналогии с определением политики, являющимся одновременно произвольным и легитимным, т.е. доминирующим и завуалированным. Эта политическая компетенция не имеет всеобъемлющего распространения. Она варьирует grosso modo] соответственно уровню образования. Иначе говоря, вероятность иметь мнение о всех вопросах, предполагающих политические знания, в достаточной мере сравнима с вероятностью быть завсегдатаем музеев. Обнаруживается фантастический разброс: там, где студент, принадлежащий к одному из левацких движений, различает 15 политических направлений, более левых, чем Объединенная социалистическая партия, для кадра среднего звена нет ничего. Из всей шкалы политических направлений (крайне левые, левые, левые центристы, центристы, правые центристы, правые и т.д.), которую «политическая наука» употребляет как нечто само собой разумеющееся, одни социальные группы интенсивно используют только небольшой сектор крайне левых направлений, другие — исключительно «центр», третьи используют всю шкалу целиком. В конечном счете выборы — это соединение совершенно разнородных пространств, механическое сложение людей, измеряющих в метрах, с теми, кто измеряет в километрах, или, того лучше, людей, использующих шкалу с отметками от 0 до 20 баллов, и тех, кто ограничивается промежутком с 9-го по 11-й балл. Компетенция измеряется в числе прочего тонкостью восприятия (то же самое в сфере эстетики, когда кто-то может различать пять, шесть последовательных стилей одного художника).
Это сравнение можно продолжить. В деле эстетического восприятия прежде всего должно соблюдаться условие, благоприятствующее восприятию: нужно, чтобы люди рассуждали о конкретном произведении искусства как о произведении искусства вообще; далее, восприняв его как произведение искусства, нужно, чтобы у них в распоряжении оказались категории восприятия его композиции, структуры и т.п. Представим себе вопрос, сформулированный таким образом: «Вы сторонник директивного или недирективного воспитания?» Для некоторых он может обернуться вопросом политическим, относящим представление об отношениях между родителями и детьми к системе взглядов на общество, для других — это вопрос чисто моральный. Итак, вопросник, составленный таким образом, что людей
В общих чертах, приблизительно (лат.).
спрашивают, считают или не считают они для себя политикой забастовки, участие в поп-фестивалях, отращивание длинных волос и т.д., обнаруживает очень серьезный разброс в зависимости от социальной группы. Первое условие адекватного ответа на политический вопрос состоит в способности представлять его именно как политический; второе — в способности, представив вопрос как политический, применить к нему чисто политические категории, которые, в свою очередь, могут оказаться более или менее адекватными, более или менее изощренными и т.д. Таковы специфические условия производства мнений, и опросы общественного мнения предполагают, что эти условия повсюду и единообразно выполняются, исходя из первого постулата, по которому все люди могут производить мнение.
Второй принцип, согласно которому люди могут производить мнение, это то, что я называю «классовым этосом» (не путать с «классовой этикой»), т.е. система латентных ценностей, интериоризованных людьми с детства, в соответствии с которой они вырабатывают ответы на самые разнообразные вопросы. Мнения, которыми люди обмениваются, выходя со стадиона по окончании футбольного матча между командами Рубэ и Валансьена, большей частью своей связности и своей логики обязаны классовому этосу. Масса ответов, считающихся ответами по поводу политики, на самом деле производится в соответствии с классовым этносом, и тем самым эти ответы могут приобретать совершенно иное значение, когда подвергаются интерпретации в политической сфере. Здесь я должен сослаться на социологическую традицию, распространенную главным образом среди некоторых социологов политики в Соединенных Штатах, которые говорят обычно о консерватизме и авторитаризме народных классов. Эти утверждения основаны на сравнении полученных в разных странах данных исследований или выборов, которые в тенденции показывают, что всякий раз, в какой бы ни было стране, когда опрашиваются народные классы о проблемах, касающихся властных отношений, личной свободы, свободы печати и т.п., их ответы оказываются более «авторитарными», чем ответы других классов. Из этого делают обобщающий вывод, что существует конфликт между демократическими ценностями (у автора, которого я имею в виду — Липсета, — речь идет об американских демократических ценностях) и ценностями, интериоризованными народными классами, ценностями авторитарного и репрессивного типа. Отсюда извлекают нечто вроде эсхатологического видения: поскольку тяга к подавлению, авторитаризму и т.п. связана с низкими доходами, низким уровнем образования и т.п., надо поднять уровень жизни, уровень образования, и таким образом мы сформируем достойных граждан американской демократии.
На мой взгляд, под сомнение надо поставить значение ответов на некоторые вопросы. Предположим блок вопросов типа: «Одобряете ли Вы равенство полов?», «Одобряете ли Вы сексуальную свободу супругов?», «Одобряете ли Вы нерепрессивное воспитание?», «Одобряете ли Вы новое общество?» и т.д. Теперь представим блок вопросов типа: «Должны ли преподаватели бастовать, если их положение под угрозой?», «Должны ли преподаватели быть солидарными с другими государственными служащими в период социальных конфликтов?» и т.п. На эти два блока вопросов даются ответы, по структуре их распределения прямо противоположные в зависимости от социального класса опрашиваемых. Первый ряд вопросов.
затрагивающий некоторый тип инноваций в социальных отношениях, в символической форме социальных связей, вызывает тем более одобрительные ответы, чем выше положение респондента в социальной иерархии и в иерархии по уровню образования. И наоборот, вопросы, затрагивающие действительные перемены в отношениях силы между классами, вызывают ответы тем более неодобрительные, чем выше респондент стоит в социальной иерархии.
Итак, утверждение «Народные классы склонны к репрессиям» ни верно, ни ложно. Оно верно в той степени, в какой народные классы проявляют тенденцию показывать себя гораздо большими ригористами, чем другие социальные классы, в столкновении с комплексом проблем, затрагивающих семейную мораль, отношения между поколениями или полами. Напротив, в вопросах политической структуры, ставящих на кон сохранение или изменение социального порядка, а не только сохранение и изменение типов отношений между индивидами, народные классы в гораздо большей степени одобряют инновацию, т.е. изменение социальных структур. Вы видите, как некоторые из поставленных в мае 1968 г. проблем, и часто поставленных плохо, в конфликте между коммунистической партией и гошистами, оказываются непосредственно связанными с центральной проблемой, которую я здесь пытаюсь поднять, проблемой природы ответов, т.е. — принципа, исходя из которого эти ответы производятся. Осуществленное мною противопоставление двух групп вопросов в действительности приводит к противопоставлению двух принципов производства мнения: принципа собственно политического и принципа этического, проблема же консерватизма народных классов — результат игнорирования данного различия.
Эффект навязывания проблематики, эффект, производимый любым опросом общественного мнения и просто любым вопросом политического характера (начиная с избирательной кампании), есть результат того, что в ходе исследования общественного мнения задаются не те вопросы, которые встают в реальности перед всеми опрошенными, и того, что интерпретация ответов осуществляется вне зависимости от проблематики, действительно отраженной в ответах различных категорий респондентов. Таким образом, доминирующая проблематика, представление о которой дает список вопросов, которые задавались институтами опросов в последние 2 года, т.е. проблематика, интересующая главным образом властей предержащих, желающих быть информированными о средствах организации своих политических действий, весьма неравномерно усвоена разными социальными классами. И, что очень важно, эти последние более или менее склонны вырабатывать контрпроблематику. По поводу теледебатов между Сервен Шрайбер и Жискар Д'Эстеном один из институтов изучения общественного мнения задавал вопросы типа: «С чем связана успешная учеба в школе и институте: с дарованиями, интеллектом, работоспособностью, наградами за успехи?» Полученные ответы предоставляют в действительности информацию (те, кто ее сообщает, не отдают себе в этом отчета) о степени осознания разными социальными классами законов наследственной трансляции культурного капитала: приверженность мифам об одаренности, о продвижении благодаря школе, о школьной справедливости, об обоснованности распределения должностей в соответствии с дипломами и званиями и т.п. очень сильна в народных классах. Контрпроблематика может существовать
для нескольких интеллектуалов, но она лишена социальной силы, даже будучи подхваченной некоторым числом партий и группировок. Научная истина подчинена тем же законам распространения, что и идеология. Научное суждение — это как папская булла о регулировании деторождения которая обращает в веру только уже обращенных.
В опросах общественного мнения идею объективности связывают с фактом формулирования вопросов в наиболее нейтральных терминах ради того чтобы уравнять шансы всех возможных ответов. На самом деле, опрос оказался бы ближе к тому, что происходит в реальности, если бы в полное нарушение правил «объективности» предоставлял респондентам средства ставить себя в такие условия, в каких они фактически находятся в реальности, т.е. апеллировал бы к уже сформулированным мнениям. И если бы вместо того, чтобы спрашивать, например, «Существуют люди, одобряющие регулирование рождаемости, есть и другие — неодобряющие. А Вы?..», предлагалась бы серия позиций, явно выраженных группами, облеченными доверием на формирование и распространение мнений, люди могли бы определиться относительно уже сформировавшихся ответов. Обычно говорят о «выборе позиции»: позиции уже предусмотрены, и их выбирают. Между тем их не выбирают случайно. Останавливают свой выбор на тех позициях, к избранию которых предрасположены в соответствии с позицией, уже занимаемой в каком-либо поле. Строгий анализ как раз нацелен на объяснение связей между структурой вырабатываемых позиций и структурой поля объективно занимаемых позиций.
Если опросы общественного мнения плохо ухватывают потенциальные состояния мнения, точнее — его движение, то причиной тому, в числе прочих, совершенно искусственная обстановка, в которой мнения людей опросами регистрируются. В обстановке, когда формируется общественное мнение, особенно в обстановке кризиса, люди оказываются перед сформировавшимися мнениями, перед мнениями, поддерживаемыми отдельными группами, и таким образом выбирать между мнениями со всей очевидностью означает выбирать между группами. Таков принцип эффекта политизации, производимого кризисом: приходится выбирать между группами, определившимися политически, и все более определять выбор эксплицитно политическими принципами. Действительно, мне представляется важным то, что опрос общественного мнения трактует это мнение как простую сумму индивидуальных мнений, сбор которых происходит в ситуации подобной процедуре тайного голосования, когда индивид направляется в кабину, чтобы без свидетелей, в изоляции выразить свое отдельное мнение. В реальной обстановке мнения становятся силами, а соотношение мнений — силовыми конфликтами между группами.
Еще одна закономерность обнаруживается в ходе этого анализа: мнений по проблеме тем больше, чем более в ней заинтересованы. Так, доля ответов на вопросы о системе образования очень связана со степенью близости респондентов к самой системе, а вероятность наличия мнения колеблется в зависимости от вероятности иметь право распоряжаться тем, по поводу чего выражается мнение. Мнение, выражаемое как таковое, спонтанно — это суждение людей, мнение которых, как говорится, имеет вес. Если бы министр национального образования действовал в соответствии с опросами общественного мнения (или хотя бы исходя из поверхностного знакомства с ними),
он не поступал бы так, как поступает в действительности, действуя как политик, т.е. исходя из полученного телефонного звонка, визита такого-то профсоюзного деятеля, такого-то декана и т.д. На деле он поступает в зависимости от реально сложившейся расстановки сил общественного мнения, которые воздействуют на его восприятие только в той мере, в какой они обладают силой, и в той мере, в какой они обладают силой, будучи мобилизованными.
Вот почему, касаясь предвидения того, чем станет Университет в ближайшие 10 лет, я полагаю, что мобилизованное общественное мнение представляет собой наилучшую основу. Как бы там ни было, факт, о котором свидетельствуют «не ответившие», факт того, что предрасположенности ряда категорий не достигают статуса общественного мнения, иначе говоря, сформировавшегося высказывания, претендующего на связность выражения, на общественный резонанс, признание и т.д., не должен давать основания для вывода, будто люди, не имеющие никакого мнения, станут в обстановке кризиса выбирать случайно. Если проблема будет конституирована для них политически (проблема зарплаты, ритма труда для рабочих), они сделают выбор в терминах политической компетенции; если речь пойдет о проблеме, неконституированной для них политически (репрессивность внутрипроизводственных отношений) или находящейся в стадии конституирования, они окажутся ведомыми системой глубоко подсознательных предрасположенно-стей, которая направляет их выбор в самых разных областях, от эстетики или спорта до экономических предпочтений. Традиционный опрос общественного мнения игнорирует одновременно и группы давления, и возможные предрасположенности, которые могут не выражаться в виде эксплицитных высказываний. Вот почему он не в состоянии обеспечить сколько-нибудь обоснованное предвидение того, что случится в обстановке кризиса.
Предположим, что речь идет о проблемах системы образования. Можно задать вопрос так: «Что Вы думаете о политике Эдгара Фора?»2 Такой вопрос очень близок к вопросу избирательного бюллетеня в том смысле, что ночью все кошки серы: все согласны grosso modo (сами не зная с чем), всем известно, что означало единодушное голосование по закону Эдгара Фора в Национальном собрании. Далее спрашивают: «Одобряете ли Вы допуск политики в лицей?» Здесь уже обнаруживается четкое разграничение в ответах. То же самое отмечается, когда задают вопрос «Могут ли преподаватели бастовать?» В этом случае представители народных классов, привнося свою специфическую политическую компетенцию, знают, что отвечать. Можно также спросить: «Нужно ли изменять программы?», «Одобряете ли Вы постоянный контроль?», «Одобряете ли Вы включение родителей учащихся в педагогические советы?», «Одобряете ли Вы отмену конкурса на степень агреже?» и т.д. Так вот, все эти вопросы присутствуют в вопросе: «Одобряете ли Вы Эдгара Фора?», и, отвечая на него, люди делали выбор одновременно по совокупности проблем, для постановки которых хороший вопросник должен был бы состоять не менее, чем из 60 вопросов, и по каждому из них обнаружились бы колебания в ответах во всех направлениях. В одном случае в распределении ответов была бы положительная связь с по-
С именем Эдгара Фора, министра национального образования, связана реформа по демократизации и модернизации высшего образования Франции, последовавшая за социально-политическими событиями мая 1968 г. Соответствующий закон был принят Национальным собранием в октябре того же года. — Прим. перев.
зицией в социальной иерархии, в другом — отрицательная, в ряде случаев -^ связь очень сильная, в ряде других — слабая либо вовсе отсутствовала бы
Достаточно уяснить, что выборы представляют предельный случай таких вопросов, как «Одобряете ли Вы Эдгара Фора?», чтобы понять: специалисть в политической социологии могли бы отметить следующее. Связь, наблюдя емая обычно почти во всех областях социальной практики между социальным классом и деятельностью либо мнениями людей, очень слаба в случае электорального поведения. Причем эта связь слаба настолько, что некоторые, не колеблясь, делают заключение об отсутствии какой-либо связи между социальным классом и фактом голосования за «правых» или за «левых». Если вы будете держать в голове, что на выборах одним синкретическим вопросом охватывают то, что сносно можно уловить только двумя сотнями вопросов причем в ответах одни будут мерить сантиметрами, а другие — километрами что стратегия кандидатов строится на невнятной постановке вопросов и максимальном использовании затушевывания различий ради того, чтобы заполучить голоса колеблющихся, а также множество других последствий, вы придете к заключению о том, что, видимо, традиционный вопрос о связи между голосованием и социальным классом нужно ставить противоположным образом. Видимо, следует спросить себя, как же так происходит, что эту связь, пусть и слабую, несмотря ни на что, констатируют. И спросить себя также о назначении избирательной системы — инструмента, который самой своей логикой стремится сгладить конфликты и различия. Что несомненно, так это то, что изучение функционирования опросов общественного мнения позволяет составить представление о способе, каким действует такой особый тип опроса общественного мнения, как выборы, а также представление о результате, который они производят.
Итак, мне хотелось рассказать, что общественное мнение не существует, по крайней мере в том виде, в каком его представляют все, кто заинтересован в утверждении его существования. Я вел речь о том, что есть, с одной стороны, мнения сформированные, мобилизованные и группы давления, мобилизованные вокруг системы в явном виде сформулированных интересов; и с другой стороны, предрасположенности, которые по определению не есть мнение, если под этим понимать, как я это делал на протяжении всего анализа, то, что может быть сформулировано в виде высказывания с некой претензией на связность. Данное определение мнения — вовсе не мое мнение на этот счет. Это всего лишь объяснение определения, которое используется в опросах общественного мнения, когда людей просят выбрать позицию среди сформулированных мнений и когда путем простого статистического агрегирования произведенных таким образом мнений производят артефакт, каковым является общественное мнение. Общественное мнение в том значении, какое скрыто ему, придается теми, кто занимается опросами, или теми, кто использует их результаты, только это, уточняю, общественное мнение не существует.
Источник: Бурдье П. Общественное мнение не существует // Бурдье П. Социология политики / Пер. с фр. Г.А. Чередниченко; сост., общ. ред. и пре-дисл. Н.А. Шматко. М: Социо-Логос, 1993. С. 159-177.
И. Кон Открытие «Я»
Для средневекового человека, пишет Л.М. Баткин, «знать самого себя значило прежде всего «знать свое место», иерархия индивидуальных способностей и возможностей здесь совпадала с социальной иерархией. В эпоху Возрождения положение меняется. Презумпция человеческого равенства и возможность изменения своего социального статуса означают, что «сознание себя» есть прежде всего познание своих внутренних, психологических возможностей. Самопознание становится предпосылкой и компонентом  самоопределения.
самоопределения.
В феодальном обществе нет ничего важнее родового имени. В нем сущность человека, по сравнению с которой все его индивидуальные свойства ничего не значат.
Символический мир средневекового человека непсихологичен. Человеческая деятельность кажется средневековому историографу-хронисту полностью предопределенной божественным провидением. Индивидуальные черты не только не привлекают к себе внимания, но «конструируются» по заранее заданному сословному образцу, будь то внешность (всем знатным лицам приписываются, например, светлые или «золотые» кудри и голубые глаза) или морально-психологические качества. Описания человека в средневековых текстах обычно сводятся к одному и тому же обязательному набору сословных качеств. Шесть или восемь прилагательных и их антонимы практически исчерпывали этот набор, причем все характеристики были со-словно-специфическими. Мужчины были смелыми, любезными, разумными (или трусливыми, грубыми и безрассудными). Качества женщин исчерпывались красотой, изяществом и скромностью, «нейтральных», «неоценочных» качеств не было.
Историки прошлого века удивлялись, как мог рыцарский культ благородства и великодушия сочетаться с тем эпическим спокойствием, с каким средневековые хронисты повествуют о массовом истреблении населения захваченных городов, опустошении деревень и т.д. Но дело в том, что «Мы» средневекового человека, а следовательно, и его способность к сопереживанию замыкались его собственным религиозным и сословным кругом. Открытие, что «и крестьянки чувствовать умеют», сделано только в Новое время.
То же самое в житиях святых. Для средневекового клирика, пишет У. Брэндт, «индивиды были собранием качеств, и их поступки вырастали из этого собрания, а не из целостной индивидуальности». Жития святых так похожи друг на друга потому, что авторы их описывают не жизнь святого, а его святость.
Лишь после этого, уже за рамками Средневековья, возникает психологическая интроспекция, потребность и способность анализировать собственные переживания и чувства. Разумеется, интроспекция не является мо-
нопольной собственностью европейского человека Нового времени. Какие-то формы самосознания, включая самоконтроль и внутренний диалог, имманентны человеческой психике, и их динамику можно обнаружить в ходе развития любой культуры в специфических для нее формах. Например, у гомеровского грека понятие «самости» как чего-то внутреннего еще отсутствует, он не может беседовать «сам с собой». Но уже Гераклит говорит о «поисках себя» и «познании себя». У софиста Горгия появляются выражения «предать самого себя», «причинить зло себе», которые, не будучи интроспективными, выражают, однако же, субъектность «Я». Антифон говорит о необходимости «властвовать собой» и «преодолевать себя», считая самообладание необходимой предпосылкой справедливого отношения к ближнему.
Сократическая философия уже прямо подразумевает внутренний диалог. Среди рефлексивных формул, употребляемых Платоном, встречаются и «самопознание», и внутренняя удовлетворенность, и «самопреодоление», доходящее в некоторых случаях до «войны» с самим собой, и «самоусовершенствование». И пусть «беседа» с самим собою, в понимании Платона, отнюдь не предполагает какого-то особого отношения к себе самому (отличного от отношения к другому), а многообразные рефлексивные формулы, как подчеркивает югославский филолог К. Гантар, не образуют последовательной системы, поскольку под «самостью» в разных контекстах понимаются разные вещи, их дифференциация все-таки свидетельствует о развитии индивидуального самосознания.
Не было безличным и европейское Средневековье. Уже ветхозаветное отношение к физическому страданию и учение о конечных судьбах мира «Я» человека, как показал С.С. Аверинцев, стимулировали гораздо более индивидуальное самоощущение, чем античность. Античный космос не имел внутреннего центра, не было его и в судьбе отдельного индивида. Для христианина такой центр существует. Личностный характер божества и возможность непосредственного общения с ним, надежда на чудо придают вере особую психологическую напряженность. «Ибо чудо, по определению, направлено не на общее, а на конкретно-единичное, не на универсум, а на "Я ": на спасение этого "Я", на его извлечение из-под вещной толщи обстоятельств и причин». Эта страсть и трепет с необычайной силой выражены в «Исповеди» Блаженного Августина, для которого открытие собственного «Я» есть одновременно и открытие Бога.
Христианское понятие самости было изначально отмечено знаком греха: индивидуализация, отделение от целого представлялось несчастьем человека, болезнью души. Внимание к собственному «Я» было признаком греховной суетности.
Сам термин «персона» в средневековой латыни крайне многозначен: он обозначал и театральную маску, и индивидуальные свойства человека, и его душу, но особенно его социальную ценность, положение, ранг («персона короля»). Характерно, что глаголы dispersonare и depersonare обозначали в Средние века не абстрактное «обезличивание» и не психическое расстройство («деперсонализация» современной психиатрии), а потерю чести (сравни выражение «потерять лицо»), причем не в морально-психологическом, а в социальном смысле — как реальную утрату своего места, статуса в феодальной иерархии.
Поэтому сдвиг, происшедший в Новое время, был поистине фундаментальным. Речь шла не только об открытии внутреннего мира, но и о повышении его ценности. Самым надежным и объективным свидетельством этого является история языка, отраженная в этимологических словарях и специальных исследованиях (например, в книге О. Барфилда «История в английских словах»). В староанглийском языке насчитывалось всего 13 слов с приставкой self (сам), причем половина из них обозначала объективные отношения. Количество таких слов — самолюбие, самоуважение, самопознание и т.д. — резко возрастает начиная со второй половины XVI в., после Реформации. Новые слова входят в быт одновременно с понятиями, описывающими внутренние чувства и переживания. В староанглийском языке слова person (лицо) или soul (душа) употреблялись главным образом в контексте отношений к обществу, церкви или космосу. В XVII в. появляется слово «характер», относящееся к человеческой индивидуальности. Слова disposition (расположение), humour (настроение), temperament (темперамент), которые раньше имели объективное, физико-астрономическое значение (например, расположение звезд), теперь приобретают субъективно-психологическое значение. Новое звучание приобретают многие моральные термины. Слово duty (долг) во времена Чосера еще имело значение объективного, внешнего «обязательства» (этимологически оно связано с понятиями «налог», «феодальная повинность»); у Шекспира оно означает внутреннюю моральную обязанность.
Словарный фонд языка точно отражает эволюцию общественных интересов. «Нет более плодотворного занятия, как познание самого себя», — писал Декарт, и этот интерес по-своему преломляется в разных формах общественного сознания. В религии «интимизация» мира отчетливо выступает в протестантизме, в котором общение человека с Богом принимает не ритуальный, а интимно-личностный характер. Индивид в протестантской религии не простое звено в цепи сверхличной церковной общности, а автономный субъект религиозного переживания. Личная вера противопоставляется внешнему (обрядовому, церковному) авторитету, благочестие же определяется не как подчинение церковному закону, а как индивидуальное внутреннее убеждение.
В философии Нового времени проблема «Я» ставится в двух различных планах. Одни авторы пытаются исследовать понятие «человеческой природы», происхождение «страстей души» и самой «идеи Я». Другие развивают философскую «мудрость», основанную на интроспекции, стремясь вывести из личного опыта нормы должного поведения. Из первого течения в XIX в. вырастает экспериментальная психология, из второго — этика.
Человеческое «Я» не сводится к одной душе, оно всегда включает какие-то «телесные» компоненты: тело символизируется, с одной стороны, как вместилище и физическая граница «Я», с другой — как средство коммуникации, обращенное вовне, к другим (внешность). Но соотношение этих значений — равно как и степень осознания отдельных компонентов своего телесного бытия — неодинаково в разных культурах.
Христианская мораль в ее наиболее аскетических формах относилась к телесности вообще и особенно к телесному «низу» враждебно, требуя подавления плоти. Поскольку это практически невозможно, массовое сознание Средневековья справлялось с проблемой путем символического разгра-
ничения «верха» и «низа». Народные обычаи, пережитки язычества и вся в целом «карнавальная культура» позволяли поддерживать между «верхом» и «низом» относительное равновесие. Нагота запрещается не только в обще_ ственных местах, но становится «неприличной» даже наедине с собой (свидетельство тому появление в XVIII в. различных видов ночной одежды -шлафроков, пижам и т.д.). Табуируются все разговоры, связанные с телесными отправлениями. В учебниках медицины XVIII—XIX вв. появляется представление, сохраняющееся с живучестью предрассудка вплоть до наших дней, что человек ощущает какую-то часть своего тела только в случае болезни и т.п.
Нарастание интереса к собственному «Я» четко отражается в искусстве В средневековой живописи портрет как таковой отсутствует. Человек, не отделявший себя от своих социальных функций и не ощущавший себя изменяющимся во времени, не нуждался в том, чтобы зафиксировать свой облик и состояние в определенный момент времени. Жак Ле Гофф, а вслед за ним А.Я. Гуревич справедливо замечают, что «неумение» средневекового художника создать портрет человека с присущими только ему чертами было на самом деле выражением иного, нежели современное, понимания сущности человека, отделением «поверхностного» и преходящего (т.е. индивидуального) от глубочайшего и вечного (т.е. родового). В человеке — для средневекового художника — ценность представляло лишь вечное и неизменное начало. Появление индивидуального портрета в эпоху Возрождения ознаменовало изменение отношения как к человеку (поскольку подчеркивалась ценность личного и неповторимого), так и ко времени (портрет в отличие от иконы фиксирует момент, а не вечность).
Сдвиг в этом отношении начинается уже в XIII в. Сначала склонность к портретному воплощению проявляют знатные и могущественные лица. Около 1300 г. французский король Филипп IV Красивый резко упрекал папу Бонифация VIII за то, что тот велел воплотить в своей статуе не идею папства как таковую, а свои индивидуальные черты. В следующие столетия это стремление получает признание, на центральных площадях многих итальянских городов появляются портретные статуи кондотьеров. Но хотя уже мастера Возрождения переходят от персонификации отвлеченных идеальных качеств к светскому портрету, они за редкими исключениями остаются бесстрастными, объективными наблюдателями природы; их мало интересует индивидуальность изображаемого лица, а его внутренний мир и вовсе не раскрывается. Однако психологизм не соответствовал общему духу аристократической культуры, которая требовала индивидуальных, но обязательно благородных, идеализированных образов. «Героизированный индивидуализм» барочного портрета, как называет его В.Н. Лазарев, требовал строгого соблюдения социальной дистанции. «В светском портрете человек должен быть изображен не таким, каков он есть, а таким, каким он кажется или должен казаться, таким, каким он хочет или должен представиться».
Социальная роль осмысливалась при этом как существующая до некоторой степени независимо от природных качеств индивида, который должен еще подняться до ее уровня. Только после того как эта задача выполнена, акценты смещаются и интерес художника обращается внутрь личности.
В эпоху Возрождения позиция художника меняется: он смотрит на изображаемое извне, с точки зрения предполагаемого зрителя. Отсюда и «объек-
тивность» ренессансного портрета, и рождение автопортрета, для написания которого художник обязательно должен видеть себя со стороны, сделать себя объектом наблюдения.
История автопортрета особенно важна для нашей темы. Его появление требовало как материальных (в виде хороших зеркал, которые в средневековой Европе появляются только в XIII в.; стеклянные зеркала были еще в Риме, но потом исчезли), так и социально-психологических предпосылок. Чтобы написать собственное изображение, художник должен был обладать не только развитым общим самосознанием, но и сознанием социальной ценности своей личности, достойной увековечения. Мастера Возрождения часто изображали себя в виде персонажей своих картин. Однако, как пишет Э. Бенкард, ни композиционно, ни психологически образ художника не занимал в этих картинах центрального положения, а его трактовка не отличалась от трактовки других персонажей. Во второй половине XV в. появились первые самостоятельные автопортреты.
Однако ни психологически, ни художественно автопортреты художника не отличались от его портретной живописи: воспринимая себя по нормам своей культуры, художник фиксировал в себе те же самые качества, которые казались ему существенными у его современников. Придворный художник и себя рисовал в обличье придворного, певец бюргерских добродетелей подчеркивал их и в себе. Характерно, что величайший мастер психологического портрета XVII в. Рембрандт оставил также самую большую в истории живописи (около ста) серию автопортретов, как будто он хотел запечатлеть каждый момент своей биографии.
Тот же процесс индивидуализации, постепенного выделения «Я» из безлично-социальных характеристик виден и в истории автобиографии в собственном смысле слова. В XVI в. автобиография усложняется. Жизнеописания Бенвенуто Челлини, Джероламо Кардано, Томаса Платтера и его сына Феликса целиком посвящены личностям своих авторов. В отличие от средневековых хроник эти автобиографии индивидуальны, полны ярких бытовых и иных подробностей, иногда (например, у Челлини) весьма темпераментны. Но повесть о событиях, в которых участвовали авторы, в большинстве случаев довлеет над самоанализом. Рассказ о своей жизни и размышления о себе (как у Монтеня) очень редко сливаются. Автор (например, Кардано) может подробно, с мельчайшими деталями описывать свою внешность, походку, болезни, вкусы, даже фантазии, но он не ставит цель проследить становление собственной личности. Ситуации меняются, герой остается тем же самым. Потребность самоутверждения, часто подкрепленная верой в свое призвание и даже мистическую предопределенность всего хода своей жизни, для этого человека так же типична, как для средневекового клирика — самоуничижение. Но он еще не воспринимает свое «Я» как внутренне дифференцированную, противоречивую и меняющуюся систему. В этом его «цельность», но одновременно и «простота».
XVII век с лихвой восполнил этот недостаток рефлексии. Любимым жанром становятся литературные «портреты», «характеры», мемуары, письма. Немецкий историк Норберт Элиас объясняет этот рост «психологизма» прежде всего особенностями придворной жизни, побуждающей ее участников (а именно представители господствующего класса задают тон в культуре) внимательно наблюдать за поведением других (а также и за своим соб-
^венным;, ничего не принимая за чистую монету, для средневекового человека ритуал и жизнь были тождественны. Теперь придворный ритуал воспринимается как условность, игра. Ирония и скепсис относительно человеческой природы, столь тонко выраженные Ларошфуко или Лабрюйером отчасти подсказаны именно опытом придворной жизни. Но от констатации игровых моментов поведения и от рефлексии по поводу своего положения в обществе человек неминуемо приходит к вопросу о природе своего «подлинного Я».
Увеличивается и ценность, придаваемая внутреннему диалогу. В XVIII в впервые появляются интимный дневник и автобиографическая литература, предметом которой становится «былое» не само по себе, а в связи с «думами», т.е. становление внутреннего мира, сокровенного «Я» автора.
В Средние века сопричастность индивида универсуму осмысливалась обычно в религиозных терминах. Теперь она мыслится как следствие всеобщей человеческой солидарности.
Идея универсальности человеческой связи звучит в философии Нового времени не менее сильно, чем идея личной автономии. Но трактовка ее никогда не была однозначной. Всеобщность социальной связи оказывается практически всеобщностью эгоистического интереса (слово «эгоизм», или «эготизм», появляется в английском и французском языках именно в
XVIII в.).
Личность появляется в литературе раньше всего как активно действующее начало. Герой-деятель раскрывается всецело и исключительно через свои поступки, его человеческие масштабы измеряются масштабом его деяний, а его внутренняя цельность подразумевается сама собой. Объектом исследования становится уже не деяние, а деятель, психологическая индивидуальность которого важнее ситуации, в которой она проявляется, и существует независимо от нее.
Трагедия Гамлета заключалась в непомерности его задачи: соединить в себе распавшийся социальный мир. Героический индивидуализм начала
XIX в. пытался найти подлинное существование и «настоящее Я» путем ра
зоблачения и отказа от фальшивых масок. Индивидуализм XX в. приходит
к выводу, что «подлинного Я» вообще не существует, что люди просто «пер
сонажи в поисках автора», а внутри человек только «система фраз».
Но вместе с личностью разрушается и психологизм как принцип художественного анализа. Не воплощенное в действиях «Я» превращается в фикцию, а человеческая деятельность становится принципиально бессубъектной. В некоторых произведениях современной западной литературы общество все больше напоминает дезорганизованный муравейник, отдельные персонажи незаметно переходят друг в друга, их психологические, как и поведенческие, очертания умышленно размыты.
Неудивительно, что в конце концов это «Я» оборачивается пустотой и дело доходит до того, что некоторые западные психологи (например. Б.Ф. Скиннер) предлагают даже изгнать это понятие из психологии.
Сокращено по источнику. Кон И. Открытие «Я». Историко-психологичес-кий этюд // Новый мир. 1977. № 8.
РАЗДЕЛ IV
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 498; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!